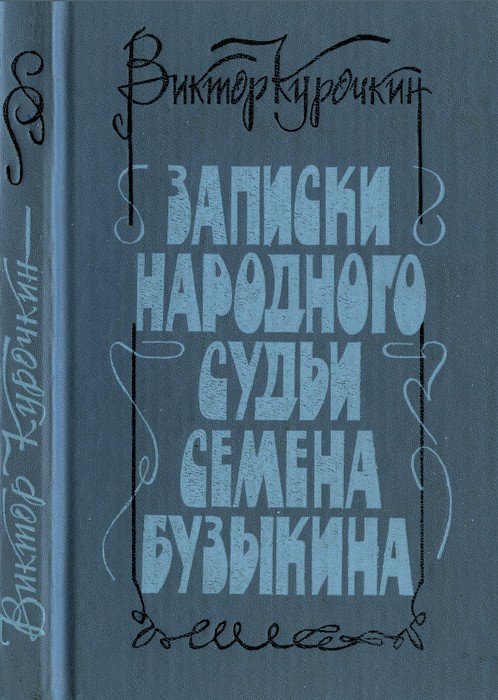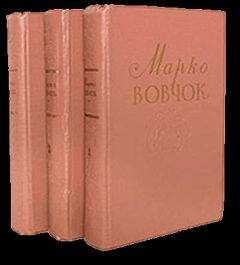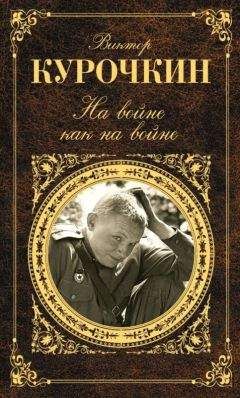подхватили ее вилами и, передавая друг другу, отправили в сторону, где намечалось быть скирде. И пошло — только успевай поворачиваться.
Ребятишки со всех сторон кидали нам на помост снопы, норовя попасть счетоводу в голову. Тот ловил их на лету и швырял мне, а я с размаху обрубком серпа рассыпал их, и мне был приятен хруст тугих связок, а Ипполит Васильевич беспрерывно совал снопы в ненасытный барабан.
Поначалу работа чем-то напоминала озорную игру. Под утренним прохладным ветерком молотить было легко и весело. Но не прошло и двух часов, как начала одолевать усталость. Своей руки с ножом я уже не чувствовал, перед глазами все заволокло желтой соломой, от воя и грохота заложило уши, и я как будто издалека слышал голос Ипполита Васильевича, который мне кричал прямо в ухо: «Давай, давай, не задерживай!» И я считал: вот минута, еще одна, еще, и я свалюсь, и не смогу подняться. Наступил момент, когда мне показалось, что я уже не в состоянии и пальцем пошевелить. И как раз в этот момент заглох трактор. Стало так тихо, словно все замерло.
Счетовод снял рубашку, размазывая по лицу грязный пот и измученно улыбаясь. Женщины, развязав платки, отряхивались. Я же, как деревянный, сполз вниз, упал в солому и лежал, не двигаясь. Одни ребятишки были неутомимы. Они поначалу затеяли шумную возню, а потом принялись задирать Лутонюшку. Лутонюшка, двадцатипятилетний парень, рослый и здоровый, был законченный дурак и свой идиотизм усиленно демонстрировал всем на потеху. Он два часа без передышки крутил веялку, и за это никто не сказал ему ласкового слова. Наоборот, когда он сидел, тупо уставясь в землю, какой-то озорник подполз к нему сзади и дернул за косичку волос. Они у него были длинные, грязные и нечесаные. Лутонюшка взвыл, как сирена, и начал плеваться. И все покатились со смеху. Смеялись и учителя, и председатель сельсовета, а Тимофей Синицын чуть не надорвал живот. Когда озорник попытался выкинуть новую каверзу над бедным Лутоней, Ипполит Васильевич, изловчившись, схватил его за ухо и так вертанул, что тот закрутился волчком. И все опять захохотали. И, насмеявшись вдоволь, стали просить Лутоню поплясать. И Лутоня стал плясать, высоко вскидывая худые грязные ноги с коричневыми, как каштан, пятками, нелепо размахивать руками и гнусаво петь какую-то неразбериху.
Мне было не до концерта. Я с тревогой смотрел на свою ладонь. Кожа большого пальца вздулась кровавым пузырем.
Пятнадцатиминутный перерыв, и опять молотилка затрещала, завыла, захлопала. В бригаде произошли кое-какие изменения в расстановке сил. Заартачился Лутоня — ему надоело крутить веялку. Спорить не стали. На его место поставили Тимофея Синицына, а Лутоню отослали к председателю сельсовета оттаскивать мешки. Мы поменялись местами со счетоводом. Теперь он разрезал снопы, а я ловил и подавал их ему. Теперь ребятишки старались мне попасть снопом в голову. А может, у них это получалось случайно. Один сноп, как бороной, ободрал мне лицо и шею.
Я задыхался от пыли, спина и руки, настеганные колосом, горели, а гора снопов вокруг меня, росла и росла. Меня закидывали окончательно. Счетовод тоже зашивался и кое-как тыкал обрубком серпа. Ипполит Васильевич сам руками потрошил снопы, совал их в барабан и отрывисто покрикивал: «Давай, давай, не задерживай!» И, как и в первый раз, в самый критический момент, когда я уже падал, тракторист внезапно остановил молотилку…
За день я насчитал четыре таких перерыва.
Вечером жена Ипполита Васильевича, рассматривая мою спину, разрисованную красными полосами, ахала. Я растирал мокрым полотенцем грудь, с вымученной улыбкой убеждал ее, что молотить — одно удовольствие, а сам про себя думал: «Нелегко достается хлеб наш насущный». Вот почему крестьянин никогда не бросит закостенелую корку в помойное ведро, как это с легкостью делает горожанин.
И второй день наша бригада работала по-ударному, хотя и без воодушевления, третий день — с заметной ленцой, а на четвертый — она развалилась. Правда, развал этот начался со второго дня, с невыхода Лутони и председателя сельсовета. Потом забастовали ребятишки. Но и за три дня было сделано немало. Обмолочено и сдано государству три тонны зерна. И колхоз полностью закончил косовицу озимых. И по сдаче хлеба занял первое место в районе. Однако колхозники посматривали на меня косо. А одна пожилая женщина резко бросила мне в лицо, что я нарочно послан к ним, чтоб выгрести все до последнего зерна. Когда я об этом пожаловался Ипполиту Васильевичу, он ничуть не удивился и сказал, что так все колхозники думают.
— Почему?
— Да потому, что вы так усердно стараетесь, — простодушно пояснил Ипполит Васильевич и, вздохнув, покачал головой. — Эх, Семен Кузьмич, да колхозу выполнить положенный план — пять тонн — раз плюнуть. Взялись бы — в одну неделю вывезли. А что дальше? — и сам же ответил на свой вопрос: — Райком прикажет сдавать хлеб за колхоз «Рассвет», потом-за «Красный партизан» Вот так все вывезут и нам опять ничего не оставят.
— А вы не сдавайте.
— Нас не спросят. Не первый год так делается.
— А нынче эта практика осуждена. Сам секретарь райкома нас так заверил. Выполнил колхоз свой план — все, больше его не трогай:
Ипполит Васильевич сморщился.
— А он и в прошлом году обещал. Мы поверили и остались без хлеба.
— В этом году такого не будет. Есть указание свыше. Выполняй план, Ипполит Васильевич, со спокойной душой. А если это повторится, то я сумею за вас постоять.
Ласточкин к моим словам отнесся настороженно и посоветовал поговорить с народом. Он собрал колхозников, я выступил перед ними, призвал выполнить первую заповедь: в срок и полностью рассчитаться с государством, и заверил их, что теперь они за других выполнять поставки не будут, а если это и случится, то я, как судья, встану на их защиту.
Они выслушали меня равнодушно, но без возражений. А когда стали расходиться, громко заговорили, заспорили.
— Опять обманут.
— Не обманут, сам судья за нас.
— Что судья? Повыше его найдутся.
— Все они хороши.
— Ты, Ксения, язык-то попридержи.
— Судья — он ничего, за нас…
— Посмотрим, сказал слепой…
И все же не прошло и четырех дней после этого собрания, как я докладывал секретарю райкома, что колхоз «Новая жизнь» отправил на ссыпной пункт последнюю подводу с хлебом.
Кондаков искренне поздравил меня с успехом. Но когда я заикнулся, что мои полномочия исчерпаны и мне пора возвращаться в суд, он попросил, чтоб я посидел в колхозе еще два-три дня. Я же твердо решил сегодня же вечером выехать в Узор.