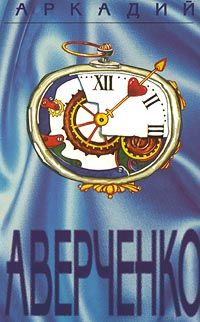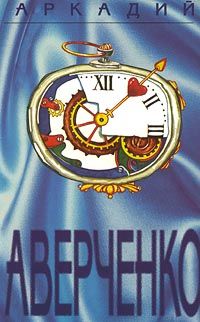Едучи обратно, я думал: что стоило бы мне просто промолчать, в то время, когда Туркин начал разговор об этом верхе… Он бы заказал его в другом месте, а Клусачев, конечно, прожил бы сам по себе и без этого заказа.
Некоторые писатели глубокомысленно сравнивают жизнь с быстро мелькающим кинематографом. Но кинематограф, если картина не нравится, можно пустить в обратную сторону, а проклятая жизнь, как бешеный бык, прет и ломит вперед, не возвращаясь обратно. Хорошо бы (думал я) повернуть несколько дней моей жизни обратно до того места, когда Туркин сказал:
«Нужно сделать откидной верх»… Взять бы после этого и промолчать о Клусачеве.
Не течет река обратно…
— Алло Вы?
— Да, это я.
— Слушайте, голубчик! Уже прошло три дня, а от вашего Кумачева ни слуху, ни духу.
— Клусачева, а не Кумачева.
— Ну, да! Дело не в этом, а в том, что уже пошли жаркие дни, и мы с женой буквально варимся в автомобиле.
— Да я был у него. Он обещал позвонить по телефону.
— Обещал, обещал! Обещанного три года ждут.
Я насильственно засмеялся и сказал успокоительно:
— За то он ради меня дешево взял. По своей цене. Всего 200 руб.
— Да? Гм!.. Странная у них своя цена… а мне в Невском гараже брались сделать за 180, и с подъемным стеклом… Ну, да ладно… Раз вы уже заварили эту кашу — приходится ее расхлебывать.
Сердце мое похолодело: подъемное стекло! А вдруг этот Клусачев делал свои расчеты без подъемного стекла?
— Хорошо, — ласково сказал я. — Я с ним… гм… поговорю… ускорю… Всего хорошего.
— Алло! Это вы, Клусачев?
— Я!
— Слушайте! Что же с Туркиным?
— А что такое?
— Вы, оказывается, до сих пор не сняли мерки?
— Да все некогда. У нас теперь масса работы по ремонту. Собственно говоря, мы бы за этот верх и совсем не взялись, но раз вы просили, я сделал это для вас. Завтра сниму мерку…
— Алло! Вы?
— Да, я. Аверченко.
— Слушайте, что же это ваш Крысачев — снял мерку, да и провалился. Уже неделя прошла. Я не понимаю такого поведения: не можешь, так и не берись… Наверное, он какой-нибудь аферист…
— Да нет же, нет, — сказал я умиротворяюще. — Это прекрасный человек! Редкий отец семейства. Это и хорошо, что он так долго не появляется. Значит, уже делает.
— О, Господи! Он, вероятно, к осени сделает этот злосчастный верх? Имейте в виду, если через три дня верха не будет — не приму его потом. И то, эту отсрочку делаю только для вас.
— Алло! Вы, Клусачев?
— Я.
— Слушайте, милый! Ведь меня Туркин ест за этот верх. Когда же…
— А, пусть ваш Туркин провалится! Он думает, что только один его верх и существует на свете. Вот навязали вы мне на шею горе-злосчастное. Прибыли никакой, а минутки свободной дохнуть не дадут.
— А он говорил, — несмело возразил я, — что у него брались сделать этот верх за 180 рублей…
— Так и отдавал бы! Странные люди, ей Богу. В другом месте им золотые горы сулят, а они сюда лезут!
На моем письменном столе прозвенел телефонный звонок.
Я снял трубку, приложил ее к уху и предусмотрительно пропищал тоненьким женским голосом:
— Алло? Кто говорить?
Сердце мое чуяло: говорил Туркин.
— Барин дома?
— Нетути, — пропищал я. — Уехамши. Куда-а-а?
— В Финляндию.
— А чтоб его черти забрали, твоего глупого барина. Надолго?
— На пять ден.
— Послушай, передай ему, что так порядочные люди не поступают! Чуть не тридцать градусов жары, а я по его милости должен жариться в проклятой душной коробке.
— Слушаю-с, — пропищал я. — Хорошо-с.
Я дал отбой и, переждав минуту, позвонил Клусачеву.
— Алло! — сказал я. — Квартира Клусачева?
— Да, — сказал женский голос. — Вам кого?
— Клусачев дома?
— Дома. А кто говорить?
— Аверченко.
— Аверченко говорит, — сказал женский голос кому-то в сторону.
— А ну его к черту! — послышался отдаленный мужской голос. — Скажи, что только что я ушел.
— Вы слушаете? Только что вышел барин. Сию минутку. Я-то думала, что он дома, а он, гляди, вышел.
— Когда же он вернется? — терпеливо спросил я.
— Когда вернетесь? — справился женский голос.
— Скажи ему, что я… ну, уехал в Финляндию; вернусь через три дня, что ли.
— Уехали в Финляндию, — повторил рабски женский голос… — через три дня.
Я швырнул трубку, бросился на диван, и закрыл лицо руками: мне представлялся Туркин, носящийся в своем глухом закрытом автомобиле по жарким душным городским улицам, и редкие прохожие, заглянув в автомобильное окно, в ужасе шарахаются при виде чьего-то красного, мокрого, обваренного жгучей духотой лица, черты которого искажены бешенством и злобой.
С этого часа я безмерно полюбил столь редкую летом холодную сырую погоду. Дождь, ветер облегчали и освежали меня. Наоборот, жара действовала на меня ужасно: красное исковерканное бешенством призрачное лицо, выглядывающее из черного мрачного гробообразного автомобиля, чудилось мне.
В этот жаркий день я был именинником, хотя в календаре Аркадий и не значился: гуляя по улице, я увидел открытый автомобиль с прекрасным парусиновым верхом. В нем сидел Туркин.
— А, — приветливо сказал я. — Поздравляю! Довольны?
— Ну, знаете, не могу сказать. Тянул, тянул этот Чертачев ваш.
— Клусачев, — печально улыбнулся я.
— Клусачев он или кто, но содрать за парусиновый верх без подъемного стекла 200 рублей — это грабеж! Удружили вы мне, нечего сказать.
Я вздохнул, похлопал рукой по кузову автомобиля и бесцельно спросил:
— Ландолэ?
— Ландолэ. Порекомендовали вы мне, нечего сказать.
— Алло! Клусачев?
— Да, я. Кто говорит?
— Аверченко. Хорошо съездили?
— Куда?
— В Финляндию.
— В какую там Финляндию?! Ах, да… Как вам сказать… Уж больно я истрепался за последнее время. Один ваш этот Туркин все жилы вымотал. Работа хлопотливая, прибыли ни копейки, да еще из-за этого выгодный заказ один утеряли. Порекомендовали, нечего сказать!..
I
Конкретное представление писца Бердяги о широкой привольной, красивой жизни заключалось в следующем: однажды года три тому назад, когда еще была жива Бердягина мать — он, по ее настоянию, пошел к крестному Остроголовченко похристосоваться и, вообще, выразить свою любовь и почтение.
— Может быть, — подмигнула веселая старуха, — этот негодяй и кровопийца оставить тебе что-нибудь после смерти. Все ж таки крестный отец.
Бердяга пошел — и тут он впервые увидел ту роскошь, ту сверкающе-красивую жизнь, выше которой ничего быть не могло.
Ярко-желтые, крашеные масляной краской полы сверкали, как река под солнцем; повсюду были разостланы белые девственные половики; мебель плюшевая; а в углу прекрасной, оклеенной серо-голубыми обоями, гостиной был накрыт белоснежный стол. Солнышко рассыпало самоцветные камни на десятках пузатых бутылок с коричневой мадерой, красной рябиновкой и таинственными зелеными ликерами; жареный нежный барашек с подрумяненной кожицей дремал на громадном, украшенном зеленью блюде в одном углу стола, а толстый сочный окорок развалился на другом углу; все это перемешивалось с пышным букетом разноцветных яиц, икрой, какими-то сырными изделиями, мазурками и бабами; а когда крестный Остроголовченко расцеловался с Бердягой, на Бердягу пахнуло превкуснейшей смесью запаха сигар и хорошего одеколона.
И разговор, который вел крестный с Бердягой, тоже был приятен, нравился Бердяге и льстил ему. Крестный не видел Бердягу лет семь, помнил его мальчиком, а теперь, увидев высочайшего молодца с костлявым носатым лицом и впалой грудью — очень удивился.
— Как?! Ты уже вырос?! Однако. Вот не думал! Да ведь ты мужчина!
По тону старого Остроголовченко можно было предположить, что он гораздо менее удивился бы, если бы Бердяга явился к нему тем же тринадцатилетним мальчишкой, которым он был семь лет тому назад. Смущенный и польщенный таким вниманием к своей скромной особе, — Бердяга хихикнул, переступил с ноги на ногу, и тут-же решил, что его крестный — прекрасный добрый человек.
— Да, да. Форменный мужчина. Служишь?
— Служу, — ответил Бердяга, замирая от тайного удовольствия разговаривать с таким важным человеком в прекрасном черном сюртуке и с золотой медалью на красной ленте, данной Остроголовченке за какие-то заслуги.
— Служу в технической конторе Братьев Шумахер и Зайд, земледельческие орудия и машины, представители Альфреда Барраса, Анонимной компании Унион и Джеффри Уатсона в Шеффильде.
— Вот как, — покачал головой крестный довольно любезно. — Это хорошо. Много получаешь?
— Двадцать семь рублей, да наградные.
— Вот как! Прямо-таки мужчина. Ты помнишь, Егор Ильич, покойного Астафия Иваныча Бердягу. Это его сынок, Володя.