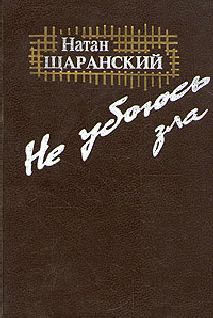-- Это ведь перевод на русский, а Тот подписывал английский ориги-нал.
-- Тогда покажите мне его, -- и я убеждался в том, что подпись по-длинная. Но то, что они не хотели показывать мне весь текст, обнаде-живало: значит, не все шло по их плану и на его допросах.
Я постоянно требовал, чтобы следователь каждый раз записывал в протокол, что он зачитывал мне показания Тота и какие именно, -- это был еще один способ убедиться в том, что Солонченко не блефует. Ведь по закону ему запрещено давать допрашиваемому ложную информа-цию. Лгут они, конечно, постоянно, но фиксировать свое вранье в про-токолах, как правило, избегают.
Выслушав показания Тота и его собеседника, я обычно подтверждал то, что касалось лично меня:
-- Да, я действительно помогал Роберту Тоту в этой беседе в качест-ве переводчика. О деталях разговора говорить отказываюсь. Заявляю лишь, что ничего, касающегося секретов государства, при мне не обсуж-дали.
Но Солонченко не оставлял надежды расшатать мою позицию. Он нашел маленькие противоречия между показаниями Тота и его со-беседников и попытался сделать из меня арбитра. Я, понятно, от-казался. Но в одном случае эти расхождения были принципиальными, и после долгих колебаний я решил отреагировать и заявил, выслушав еще раз свидетельства Петухова и Боба, что ни одна из их встреч не происходила по инициативе Тота. Я продиктовал следователю фра-зу, а потом весь вечер и всю ночь мучился угрызениями совести, ибо в споре двух людей, преследуемых КГБ, взял сторону одного из них. В том, что у Роберта серьезные неприятности, я уже не сомне-вался, но, может, положение Петухова -- этого действительно по-дозрительного и малосимпатичного типа -- в тысячу раз хуже? Мо-жет, теперь КГБ использует мое заявление, чтобы "додавить" его? Разве я не нарушил свой принцип не давать показаний о других лю-дях?
Терзания мои кончились на следующий день, когда Солонченко по-просил меня подписать протокол этого допроса: мое заявление в нем от-сутствовало. Значит, следствию оно почему-то невыгодно. Тогда я стал настаивать на включении этой фразы и после нудных препирательств добился своего.
В итоге я оказался прав: поддержка нужна была Бобу, а не Петухову. В то время, когда я грыз себя -- не подвел ли я его, -- Петухов получал в своем институте очередную благодарность. Надо думать, что КГБ не оставил его своей милостью: ведь именно Петухов месяц назад помог им провести операцию по захвату Тота "с поличным". Но всего этого я тог-да не знал. Так или иначе, никогда больше во время следствия я не от-ступал от своего правила не давать показаний на других.
Большую часть времени во время наших встреч Солонченко тратил на рассказы о том, как западные спецслужбы собирают в СССР секрет-ную информацию с помощью своих журналистов и дипломатов.
После очередной бессонной и холодной ночи -- засыпать я стал толь-ко на восьмой день карцера, да и то ненадолго, максимум на час, -- ото-гретый чаем, я во время его монологов дремал, положив голову на руки.
-- Я вам не мешаю, Анатолий Борисович? -- спрашивал Солонченко с иронией.
-- Ничего, ничего, продолжайте, не обращайте на меня внимания, -отвечал я, не поднимая головы от стола.
Следователь тратил свое красноречие попусту -- я его просто не слы-шал. Но когда он вытаскивал меня из вязкого болота дремоты и я воз-вращался к реальности, одна лишь тревожная мысль занимала меня, не давая покоя: что произошло в Москве за эти три месяца? Действительно ли КГБ удалось впутать нас в какую-то шпионскую историю?..
В карцере у меня между тем нашлось интересное занятие. С детства я отличался абсолютным отсутствием слуха. Помню, как в садике во время музыкального часа, когда мы разучивали какую-нибудь про-стенькую песенку, воспитательница, уставшая бороться с моим неуп-равляемым баском, говорила:
-- Подожди, Толенька, ты споешь потом.
Я обиженно умолкал и ждал своего часа. Затем была школа, летние лагеря, институт, но мой час так все не наступал. Как только я присое-динялся к поющим хором, всем становилось ясно, что мне лучше "спеть потом"... В последние годы не петь я не мог: израильские песни стали необходимой частью нашей новой жизни. Каждый раз, включаясь в хор, я видел, что мои друзья в экстазе еврейской солидарности прощают мне мою музыкальную бездарность, и все же чувствовал себя так неловко, что на этой почве у меня развился тяжелый комплекс вокальной непол-ноценности.
И вот как-то во время одного из своих "побегов" на волю, к друзьям, я стал напевать песню на слова поучения раби Нахмана из Браслава: "Коль гаолам куло -- гешер цар меод, вэгаикар -- ло лефахед клаль..." ("Весь мир -- узкий мост, и самое главное -- ничего не бояться"), и тут почувствовал, что пришел мой час, наступило то самое "потом", которое мне обещала воспитательница.
Наконец-то я мог петь во весь голос, не боясь оскорбить чей-либо слух, нарушив музыкальную гармонию. Страдать от моего пения мог только вертухай -что ж, так ему и надо!
Я вспоминал все новые и новые песни на иврите, которые знал, и это оказалось самым простым, быстрым и легким способом побороть одино-чество.
Почти каждый день у дверей карцера появлялся Петренко.
-- Как Щаранский ведет себя? -- спрашивал он у дежурного.
-- Нормально.
-- Что делает?
-- Поет.
-- Что поет?
-- Непонятно поет, не по-нашему.
Петренко открывал дверь.
-- Ну что, Щаранский, поете? -- весело спрашивал он.
Я продолжал петь.
-- Нарушать еще будем?
Я пел.
-- Обратно в камеру не хотите?
Я пел.
-- Ну, раз поет, значит ему здесь нравится, пусть еще сидит, -гово-рил Петренко и уходил.
Через некоторое время появлялся Степанов.
-- Вы бы, Щаранский, записались на прием к начальнику, объясни-ли ему, что сожалеете, пообещали, что больше не будете, -- он наверня-ка освободил бы вас из карцера.
Степанов не Петренко, с ним можно и поговорить.
-- Что я больше не буду?
-- Как что? Ножи делать. Вам же здесь плохо. А Петренко -- началь-ник строгий, но справедливый.
Как-то Степанов заметил, что пол в карцере усыпан штукатуркой, и обратился к дежурному:
-- Почему так грязно? Дайте ему веник, пусть подметет.
-- Мне веник? -- удивился я. -- А вдруг я из него ружье сделаю?
-- Юмор -- это хорошо. Это мы понимаем, -- натянуто улыбнулся Степанов, но, уходя, сказал на всякий случай вертухаю:
-- Отставить веник!
Его посещения и уговоры сказать Петренко "больше не буду" повто-рялись чуть ли не ежедневно. Интересно, думал я, как бы они поступи-ли, если бы я и впрямь покаялся? Обманули бы и не выпустили из кар-цера? Но ведь они хотят, чтобы я им верил, и на таких пустяках вряд ли станут себя дискредитировать. Выпустили бы? Но ведь посадили-то ме-ня сюда не по капризу Петренко, а в "высших интересах" следствия, ко-торое пытается использовать для давления каждый час, проведенный мной в карцере. Позднее, с опытом, пришел и ответ. Да, пожалуй, Солонченко с компанией согласились бы потерять несколько карцерных дней, если я бы уступил Петренко. Обнаружить в человеке первые при-знаки слабости, угадать его желание пойти на "почетный компромисс", поощрить его в этом, а потом сломить окончательно -- в этом кагебешники -большие мастера.
На седьмой день карцера чтение показаний Тота и людей, с которы-ми он встречался, прекратилось. Я ожидал, что Солонченко перейдет теперь к злосчастной статье Боба, но он предъявил мне один из вариан-тов списка отказников, изъятый у кого-то на обыске. Списка этого я не помнил, но не увидел в нем ничего подозрительного. Были в нем стан-дартные сведения: фамилия, имя, отчество, семейное положение, коли-чество детей; работает ли человек или уволен после подачи заявления на выезд -- это важно для решения вопроса о материальной помощи; когда и с какой формулировкой получен отказ. В последней графе мож-но было увидеть и расхожее -- "не соответствует интересам государст-венной безопасности", "отсутствует разрешение ближайших родствен-ников", и экзотическое -- "принято решение, что вам лучше жить в СССР"; кроме того, в ней содержалась информация, которую сам отказ-ник пожелал включить в материалы опроса в подтверждение необосно-ванности своего отказа. Например: "Работал в таком-то НИИ, институт открытый, поддерживает научные контакты с такими-то американски-ми институтами" или "Работал на закрытом предприятии до 1965 года".
Я просматривал этот список и пытался определить, подлинный ли он, нет ли в нем подделок. Будь рядом Дина, она бы решила эту задачу в два счета. Но где она сейчас? Может, тоже здесь, в Лефортово?
-- Кто, когда и как составлял этот список? -- спросил Солонченко и записал в протокол стандартную формулу отказа от показаний. После этого он протянул мне еще два листа со списками отказников -- один из них был заполнен Дининым почерком. Я молча вернул их ему.
Когда следователь на следующий день дал мне на подпись отпечатан-ный протокол этого допроса, я нашел в нем такую фразу: "Я ознакомил-ся с предъявленным мне документом, являющимся черновиком списка отказников, машинописный текст которого был мне предъявлен ранее. Показания давать отказываюсь по причинам..." -- и так далее.