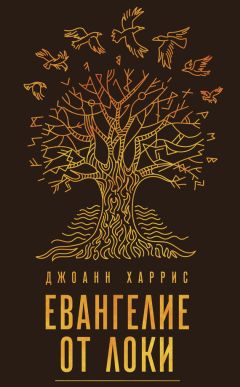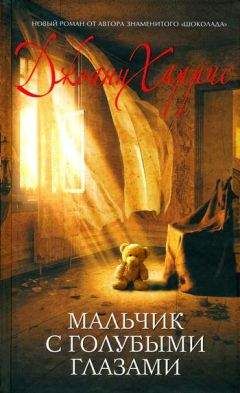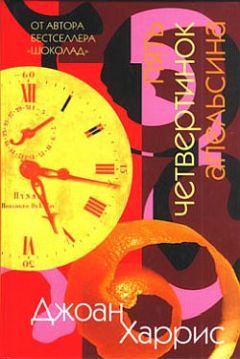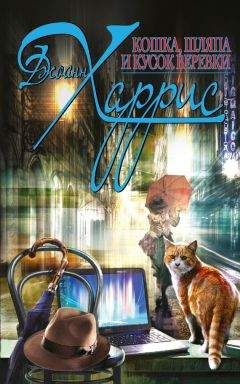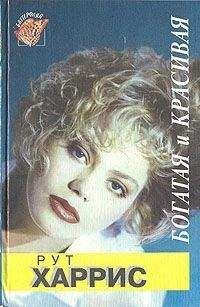теперь и подавно, как я понимал, расскажет только то, что захочет сам, и в тот момент, который сам сочтет подходящим. И потом, «Сент-Освальдз» – это ведь некий особый мир, существующий как бы отдельно от всей остальной цивилизации; мы вечно поглощены всякими там учебными планами, расписанием уроков, школьными поездками, новичками, сложностями с привратником и прочими крупными и мелкими делами и делишками – словом, всей той трагикомедией, если не сказать фарсом, что всегда сопровождает любую классическую школу в ее путешествии по бурным морям юношеского взросления. Короче говоря, мне так и не удалось окончательно выяснить те причины, которые вынудили его уйти из «Короля Генриха» и вернуться в «Сент-Освальдз». Не сумел я также понять и того, был ли он вообще рад к нам вернуться. Мы с ним остались друзьями и продолжали жить, как жили раньше: вместе пили чай, критически анализировали скандалы, случавшиеся в учительской, закусывали сэндвичами с ветчиной и сыром, а также (это в основном касалось меня) еще и украдкой выкуривали во время перемен запретную «Голуаз». Мы по-прежнему каждую неделю посещали паб «Жаждущий школяр» и пили пиво с «завтраком пахаря» [42].
Разумеется, мы часто говорили с Эриком о его престарелой матери, ибо его очень тревожили ее быстро ухудшавшиеся умственные способности. Мы также обсуждали отвратительное поведение «саннибэнкеров», которые продолжали запихивать в мою зеленую изгородь всякий мусор. И естественно, каждый год темой наших разговоров становился очередной новый преподаватель, появившийся у нас на кафедре; эти новички приходили и уходили, а мы по-прежнему оставались на своем посту, как часовые, и с каждым годом головы наши все больше седели. Затем у меня случились серьезные неприятности с сердцем, и Эрика это как-то странно встревожило – казалось, ему впервые пришло в голову, что в один прекрасный момент меня с ним рядом может и не оказаться.
– Никогда ведь не думаешь, что это может случиться, – говорил он, стоя у моей постели на следующий день после моего инфаркта. – Человеку свойственно думать, что он принадлежит к числу тех немногих, кому смерть вообще не грозит.
Высказывание весьма поэтичное для Эрика. Что свидетельствует о том, сколь сильно он из-за меня волновался. Его слова были также весьма созвучны с теми моими мыслями, которые не давали мне покоя после истории с Гарри Кларком [43]: меня тогда поразила устойчивость той иллюзии вечной жизни, живущей, наверное, в каждом. Это очень опасная иллюзия, однако чрезвычайно распространенная. Folie a tous [44], как сказал бы Эрик. Призрачное ощущение, будто драгоценный маленький мирок каждого из нас является неуязвимым, несокрушимым и будет существовать без конца, а значит, и мы вместе с ним.
Что-то я сегодня сентиментально настроен. Наверное, поэтому Эрик и не идет у меня из головы. И в груди у меня какое-то неприятное стеснение, и ощущение это, пожалуй, похуже обычного сердцебиения, вызванного чрезмерным количеством выпитого мною кофе. Вообще-то обычно я кофе стараюсь не пить. Так велел мне мой врач; он же посоветовал мне всячески избегать стрессов – а они в школе абсолютно неизбежны, – не увлекаться сыром, фруктовыми пирожными, лакричными леденцами, аппетитным хрустящим печеньем, «способствующим пищеварению», а также исключить из своего меню «завтраки пахаря», пиво, порто, сахар и мои любимые крепкие «Голуаз»; короче, он бы хотел, чтобы я вычеркнул из своей жизни большую часть тех замечательных мелочей, благодаря которым жизнь и становится достойной того, чтобы ее прожить. Вообще-то я по большей части его советы игнорирую, как и подобает магистру, преподающему классические языки, которого пытается буквально оседлать некий тип средних лет, который некогда был его учеником, а теперь подвизается в качестве врача-кардиолога.
Хотя в данном случае он, вероятно, прав: мне действительно не следует пить столько кофе. От кофе я начинаю задыхаться, испытывать сердцебиение, становлюсь страшно нервным и чувствую себя очень толстым и необычайно постаревшим, хотя обычно я чувствую себя мальчишкой лет четырнадцати, у которого необъяснимым образом слишком рано поседела голова. Но сегодня я кажусь себе вороньим пугалом вроде Мафусаила и вынужден буквально собирать себя по частям, направляясь из учительской в свой класс. Дело, конечно, еще и в том, что я скучаю по моим «Броди Бойз». Мой нынешний класс 2S можно, пожалуй, назвать скучным; он как бы неторопливо движется по жизни пешком. В этом классе нет ни комедиантов, ни шалунов, ни таких ярких эксцентриков, как Аллен-Джонс, ни таких маленьких мудрых эльфов, как Тайлер. Нет там и особых нарушителей спокойствия, что, конечно же, следовало бы воспринимать как некий положительный момент; однако меня, как ни странно, это не утешает. Для уроков нравственности хорошо иметь хотя бы маленькие нарушения. Это заставляет сердце моралиста биться быстрее. Однако в настоящий момент единственное, о чем я способен думать, это тот мальчик; тот, что даже учеником нашей школы не был. И не одного меня занимают подобные мысли. Бенедикта Уайлд с самого первого дня пытается привлечь мое внимание и завести разговор о том деле. Сегодня, например, она подобралась ко мне на перемене, когда я стоял в Среднем коридоре, держа в руках свою утреннюю чашку чая, и следил за порядком.
Бенедикта, как всегда, была в брюках. Теоретически у девочек, которые перевелись к нам из «Малберри Хаус», всегда есть выбор: юбку или брюки им сегодня надеть. Выбор этот был предложен Ла Бакфаст, которая и сама почти всегда носит брюки, но пока что Бенедикта Уайлд – единственная из девочек, кто постоянно этим предложением пользуется. Впрочем, она и во всем остальном совершенно не похожа на своих соучениц. Например, ее новая стрижка существенно короче, чем даже у Аллен-Джонса, и она в отличие от других девиц (и, кстати, от того же Аллена-Джонса!) никогда не пользуется ни лаком для ногтей, ни мейкапом.
Так вот, она подобралась ко мне и тихо, но весьма выразительно спросила:
– Ну что, сэр?
Я с ужасом ждал этого вопроса. И все же, как я постоянно твержу себе, иной раз лучше солгать. Бенедикта Уайлд не принадлежит к тому типу людей, которые способны с легкостью забыть столь волнующее открытие. Однако вряд ли она понимает, какие мучительные последствия это открытие может иметь, какой удар его обнародование нанесет нашей школе, и без того теряющей свою репутацию.
Я улыбнулся и сказал:
– С добрым утром, мисс Уайлд. Я полагаю, первая неделя нового триместра оказалась для вас и в меру веселой, и в меру вдохновляющей?
Она мрачно на меня глянула и сухо попросила:
– Я бы предпочла, сэр, чтобы вы меня так не называли.
– Как? Мисс Уайлд? – Честно говоря, я почти позабыл о том, что говорил мне Аллен-Джонс.
Она кивнула.
– Мне бы хотелось,