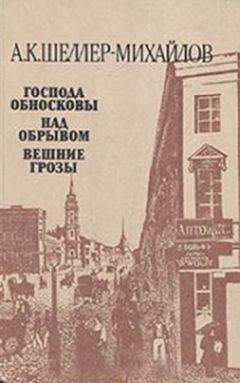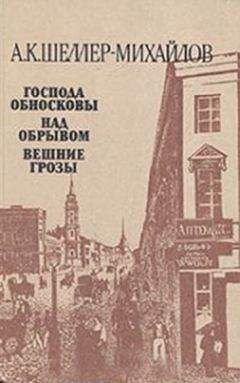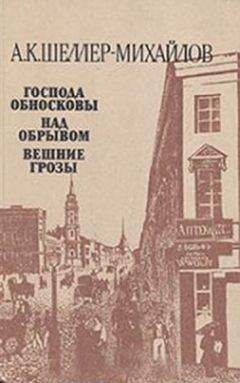Однако, к величайшей досаде любопытных, молодого Мухортова было нелегко встретить в так называемом порядочном обществе. Он с первых же дней переселения в охотничий домик повел странную жизнь. Он стал ежедневно совершать отдаленные прогулки, посещая то ту, то другую деревню; где- было возможно, он подолгу беседовал с мужиками, присматривался к их жизни, вникал в их быт, изучал все, что поддавалось изучению. Перед ним была открыта новая книга — книга народной жизни, и он жадно стремился заглянуть хоть в некоторые ее страницы, сознавая не без горечи, что именно в этой области у него является громадный пробел знаний. Это стремление не ускользнуло от наблюдательных глаз ближних, и в какую-нибудь неделю или две создалось толков о Мухортове чуть не на год. Одни утверждали, что Мухортова видели у опушки леса сидящим в кругу оборванных бродячих нищих; другие рассказывали, что он посетил в одной деревне кабак с партией фабричных рабочих; третьи говорили, что к нему ходят толковать и спорить местные сектанты, проповедующие равенство людей во всех отношениях и даже в имущественном. Преувеличения росли не по дням, а по часам, принимая иногда чудовищные размеры. До простой мысли о том, что человек хочет поближе узнать свой родной народ, не доходил никто. Но каковы бы ни были эти нелепые или комические рассказы, они все оканчивались одним зловещим припевом:
— Это недаром! Теперь такие времена!
Все как будто ждали, что вот-вот молодой человек произведет нечто страшное, нечто такое, за что не похвалят. Связь с Полей, сплетни Агафьи Прохоровны, рассказы недовольного барином Прокофья о житье-бытье в охотничьем домике — все это только подливало масло в огонь. Толкуя о связи Мухортова с Полей, Агафья Прохоравиа говорила:
— Он всем благородным девицам афронт нанес. Где бы с хорошими людьми, где барышни заневестились, сойтись, а он с хамкою в амуры вошел. Повенчаться хочет. Говорят, теперь и в облачении мужицком ходить стал, а туда же, дворянином считается! Тоже слыхали мы, что таким-то долго на воле ходить не позволяют. Родная мать и та хотела дворянскому предводителю жаловаться! Так ведь он чуть не убил ее. Ну, известно, женщина слабая, от греха и уехала. Как есть разбойник на большой дороге!.. В церковь, в храм божий, никогда не заглянет!.. И как это Алексей Иванович к нему своего Павлика пускает? А впрочем, тот-то тоже хорош; из седьмого класса гимназии за бунт выгнали…
Прокофий тоже негодовал на молодого барина со своей точки зрения.
— Ни к нему никто из господ не ездит, ни сам ни к кому не заглянет, — говорил он. — Прежде как-никак, а все же, бывало, господа заедут, на чай перепадет… А теперь, коли и придет кто, так мужик. С собой сажает, чаем поит… У нас при барыне в передней мужик, бывало, постоит, так курить амбре велят!.. Тоже выдумал моду: дрова сам колет, гряды копает. Сказал я ему, что не господское это дело, так меня же вышутил: «Глупый ты, говорит, это я для здоровья, силы набраться хочу…» А на что ему силы? В кулачный бой, что ли, идти?.. Ел бы лучше, как господа, а то у нас Матюшка, повар-то наш, говорит: «Этак я забуду, как и готовятся господские кушанья…» Почитай, то же ест, что и мы, грешные… В папеньку, верно, пошел: тот тоже все щи да кашу ел… Так тот это по солдатскому положению, на войне привык…
В гостиных про Мухортова говорилось еще больше глупостей и нелепостей. Даже сам Коко Томилов, избегавший прежде всяких разговоров о Мухортове, так как говорить о нем хорошо он не мог, а говорить дурно о бывшем своем сопернике считал недостойным джентльмена, не мог не принять теперь участия в этих толках.
— Что с ним? — говорил он у Ададуровых, пожимая плечами. — Он ходит бог знает в каком наряде: в высоких сапогах, в блузе, подпоясанной ремнем. Можно за мастерового принять.
— В нигилисты пошел! — не без едкости заметила старшая из Ададуровых.
— Что? В нигилисты пошел? — переспросила глухая Ададурова. — Он и всегда был нигилистом! Я сейчас, как увидала его, сказала: нигилист! Над спиритизмом глумился, про отца Николая заговорила — гримасу сделал!
Средняя сестра Ададурова всегда всего пугалась.
— Ах, уж не прокламации ли он разбрасывает? — воскликнула она с ужасом, обводя всех оторопевшими глазами. — Чего же смотрят?
Томилов презрительно заметил:
— Я не знаю, нигилист он или нет, но я знаю, что он невежа: мы были представлены друг другу, а он не считает нужным отведать на поклоны…
— Современное воспитание! — ядовито вставила старшая из Ададуровых.
— Что? Современное воспитание? — переспросила глухая сестра. — Глупости! Кто это его воспитывал? Отец? Казармой от него пахло! Мать? О ее молодости лучше не говорить, а теперь Зола на столе открыто держит! Правда, был при нем гувернер. Так кто же не понимает, что это за человек был: беглый революционер, скрывавшийся от гильотины!
— Ах, ma sœur [6], молчите, молчите! — испугалась средняя сестра. — Разве теперь такие времена, чтобы упоминать о революции и гильотине!
И затем, обращаясь к Томилову, она молящим тоном прибавила:
— Ради бога, старайтесь не встречаться с ним, делайте вид при встрече с ним, что не замечаете его, а то и вы можете пострадать, и мы все…
Она даже вздрогнула при этой мысли.
— Мне рассказывали в Москве, что вот один такой ходил к разным лицам в гости, со многими говорил, с иными только кланялся, а потом вдруг попался и всех за ним привлекли. Потом стали исследовать, с кем и эти люди знакомы, и тех тоже привлекли…
Она широко открыла глаза, сама пораженная нарисованной ею колоссальной картиной привлечений, и перевела дух
— Потом пять лет так-то всех привлекали! Вот какие это люди!
— За Марью Николаевну нужно опасаться, — осторожно заметил Томилов.
— Разве Марью Николаевну можно удержать от чего-нибудь, когда ее отец сам дал ей волю! — желчно воскликнула старшая Ададурова.
— Что? Волю дали? Кому опять дали волю? — переспросила, встревожившись, глухая сестра.
— Мари! — ответила старшая.
— А! Мари! Замуж надо выдать, вот и не будет воли!
— Ах, я готова хоть сейчас уехать в Москву, чтобы подальше от него! — пугливо сказала средняя сестра. — И Мари там будет в безопасности!..
Даже сам Алексей Иванович, отмахивавшийся руками, когда заговаривали о «политике», то есть о чем бы то ни было, не касавшемся прямо его личного хозяйства, — даже он заметил как-то племяннику;
— Егорушка, ты остерегайся!
— Чего, дядя?
Алексей Иванович развел руками.
— Так, остерегайся!.. Черт его знает чего, а все же береженого и бог бережет… Вот о тебе все говорят.
— Что говорят?
— Да я-то почем знаю! А говорят!.. Нынче такие времена, что опасно, если про человека говорят… И что тебе за сласть, если говорить будут?..
— Да ведь не могу же я запретить.
— Так-то так, а все же.
Старик махнул рукой.
— Прохвосты нынче люди!
До Марьи Николаевны доходила тоже значительная часть этих бесконечных толков.
Она невольно задумывалась о Мухортове. Что это за странный человек: он не сделал ни одного шага, чтоб поискать ее руки для поправления своих дел; он хладнокровно потерял большую часть своего имения; он оставался веселым, когда все смотрели на него, как на несчастного разоренного человека. Иногда в ее душе поднималось против него чуть не враждебное чувство, точно он лично ей нанес глубокое оскорбление, не посватавшись за нее. Порою она вдруг горячо вступалась за него в обществе и говорила, что это единственный честный человек, встреченный ею в жизни. То ей становилось до слез досадно на то, что она думает о нем, то ей страстно хотелось увидать его, сдружиться с ним, заглянуть в его душу. Эта двойственность душевного настроения выводила ее из себя, и она вымещала свое раздражение на своем женихе. Он решительно не знал, как угодить ей, как попасть ей в тон. Он, может быть, давно бы изнемог, устал от этой игры в кошки и мышки, если бы она не была такой выгодной невестой. Из-за нее можно было перенести многое. Крупные призы на жизненной арене вообще достаются нелегко. С Мухортовым Марья Николаевна не встречалась давно, и когда ей пришлось снова увидать его в доме Алексея Ивановича, она совершенно смутилась. Егор Александрович раскланялся с нею и тотчас же стал продолжать прерванный на мгновение ее приходом разговор о будущей охоте с Павлом Алексеевичем. Ее почему-то раздражило это равнодушие, точно она ждала, что Мухортов бросится к ней с распростертыми объятиями или, в крайнем случае, взволнуется, изменится в лице. Но Егор Александрович продолжал громко веселую болтовню со своим юным двоюродным братом, страстным охотником.
— За что это Егор Александрович дуется на меня? — вдруг спросила она у двоюродных сестер Егора Александровича.
— Как дуется? — воскликнули Зина и Люба. — С чего ты взяла?