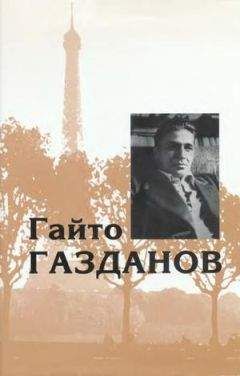– Простите, пожалуйста, кто вы такой?
– Здесь вопросов не задают! – резко ответил он.
– В этом есть какое-то противоречие, – сказал я. – Мне показалось, что в вашем голосе, когда вы обратились ко мне, зазвучала явно вопросительная интонация.
– Поймите, что речь идет о вашей жизни, – сказал он. – Диалектикой заниматься теперь поздно. Но, может быть, вам полезно будет напомнить, что вы обвиняетесь в государственной измене.
– Ни более ни менее?
– Ни более ни менее. И не стройте себе никаких иллюзий: это – страшное обвинение. Повторяю, что только полное признание может вас спасти.
– В чем же выражается моя государственная измена? – Вы имеете наглость это спрашивать? Хорошо, я вам скажу. Государственная измена заключается уже в том, что вы считаете возможным допускать преступный принцип законности псевдогосударственных идей, которые противоречат великой теории Центрального Государства, выработанной лучшими гениями человечества.
– То, что вы говорите, настолько нелепо и наивно, что на это как-то неловко отвечать. Я хотел бы только вам заметить, что возможность допущения того или иного принципа есть теоретическое положение, а не факт, в котором можно обвинять человека.
– Даже здесь, в трибунале центральной власти, вы говорите таким языком, в котором каждое слово отражает вашу преступность. Прежде всего, представитель власти, а в частности следователь, для вас непогрешим и ни одно из его выражений не может быть названо ни наивным, ни нелепым. Но дело не только в этом, хотя теперь, после того, что вы сказали, ваша вина усугубляется еще одним пунктом: оскорбление представителей центральной власти. Вы обвиняетесь в государственной измене, в заговоре на жизнь главы государства и, наконец, в убийстве гражданина Эртеля, одного из наших лучших представителей вне пределов нашей территории.
– Кто такой Эртель?
– Человек, которого вы убили. Не пытайтесь этого отрицать: центральной власти известно все. Полное сознание, это – последний жест, который вы можете сделать и которого от вас ждет государство и общественное мнение всей страны.
– Единственное, на что я могу ответить, касается Эртеля. Этот человек был наемным убийцей. Я находился в состоянии законной самозащиты. Эртель, по-видимому, никогда до тех пор не имел дела с людьми, которые привыкли защищать свою жизнь, и его неловкость его погубила. Что же касается остальных обвинений, то это невежественный вздор, очень дурно характеризующий умственные способности того, кто его выдумал.
– Вы будете жестоко раскаиваться в ваших словах. – Обращаю ваше внимание на то, что глагол «раскаиваться» составляет неотъемлемую часть понятий явно религиозного происхождения. Мне было странно его слышать в устах представителя центральной власти.
– Что вы скажете во время очной ставки с вашими сообщниками?
Я пожал плечами.
– Довольно! – сказал он и выстрелил из револьвера: пуля вошла в стену метра на полтора выше моей головы. Дверь отворилась, и те же солдаты, которые привели меня, вошли в комнату.
– Отведите обвиняемого в камеру, – сказал следователь.
Только тогда, возвращаясь в камеру, взглядывая время от времени на портреты и статуи, я подумал, что действовал неправильно и не должен был отвечать следователю так, как я отвечал. Мне надо было просто доказывать ему, что я никак не могу быть тем, за кого он меня принимает. Вместо того чтобы занять именно эту позицию, я говорил с ним так, точно принимал какую-то абсурдную законность его аргументации и, не будучи с ней согласен, так сказать, диалектически, я все-таки оставался в том же плане, что и он. Вместе с тем, было очевидно, что я был совершенно чужд миру, в который я попал. Лица конвоировавших меня солдат отражали полное отсутствие какой бы то ни было мысли или какого бы то ни было душевного движения. Портреты были похожи на олеографии, выполненные мастеровым, которого художественное убожество невольно вызывало жалость и презрение; статуи были такими же. То, что говорил мне следователь, носило печать такой же свирепой умственной нищеты, и в мире, из которого я пришел, подобный человек не мог бы занимать никакого места в судебном аппарате.
Вернувшись в камеру, я собирался рассказать о допросе моему соседу, но меня тотчас же увели опять, на этот раз в другом направлении, и я попал ко второму следователю, который обращался со мной несколько иначе, чем первый.
– Нам известно, – сказал он, – что мы имеем дело с человеком сравнительно культурным, а не простым наемником той или иной политической организации, которая нам враждебна. Вы знаете, что мы окружены врагами и это вынуждает нас к сугубой осторожности и заставляет нас иногда принимать меры, которые могут показаться слишком крутыми, но которых не всегда удается избежать. Именно так произошло с вами. Мы знаем, или во всяком случае хотим надеяться, что ваша вина меньше, чем это может показаться на первый взгляд. Будьте откровенны с нами, это и в ваших, и в наших интересах.
По тому, как он говорил, было понятно, что он, конечно, гораздо опаснее первого следователя. Но я был почти рад этому: с ним можно было разговаривать другим языком.
– Я понимаю ваше раздражение во время первого допроса, – продолжал он. – Произошла ошибка, чрезвычайно досадная: следователь, к которому вы попали, обычно ведет только самые простые дела, хотя неизменно стремится к вещам, явно превышающим его компетенцию. Он, видите ли, выдвинулся по партийной линии, к нему нельзя предъявлять особенно строгих требований. Но перейдем к делу. Вам известно, в чем вы обвиняетесь?
– Я хотел бы знать, – сказал я, – за кого меня принимают. Для меня очевидно, что все происходящее сейчас – результат недоразумения, которое мне хотелось бы выяснить. Моя фамилия – я назвал свою фамилию – такая-то, я живу в Париже и учусь в университете, на историко-филологическом факультете. Я никогда – как это легко установить при самом поверхностном следствии – не занимался политической деятельностью и не состоял ни в какой политической организации. Обвинения в том, что у меня были какие-то террористические намерения, настолько абсурдны и произвольны, что останавливаться на них я не считаю нужным. Я допускаю, что человек, за которого меня принимают, мог быть и террористом, и вашим политическим противником. Но ко мне это не имеет никакого отношения. И я надеюсь, что ваш государственный аппарат окажется все-таки достаточно рационально организованным, чтобы это установить.
– Стало быть, вы утверждаете, что Розенблат ошибся? Если так, то дело принимает для вас действительно трагический оборот.
– Кто такой Розенблат? Я впервые слышу эту фамилию и никогда не видел этого человека.
– Я должен сказать, что вы сделали все, чтобы никто и никогда его больше не увидел: вы его задушили.
– Позвольте, полчаса тому назад мне сказали, что его фамилия была Эртель.
– Это ошибка.
– Как, опять ошибка?
– Я никогда не ценил Розенблата, я лично, – продолжал следователь. – Когда вы назвали его наемным убийцей, вы были недалеки от истины. Несчастье заключается в том, что он был единственным, кто мог вас спасти. Вы лишили его этой возможности. У нас лежит его секретный рапорт о вас и о вашей деятельности. Приведенные там сведения слишком подробны и точны, чтобы быть вымышленными. К тому же этот человек был абсолютно лишен фантазии.
– Очень может быть, что сведения, которые заключаются в его рапорте, совершенно точны. Но единственное и самое важное соображение в данном случае – это что речь идет о ком-то другом, а не обо мне.
– Да, но как это доказать?
– Этот человек, в частности, не мог быть похож на меня как близнец. Кроме того, он носил, я полагаю, другую фамилию. Есть, наконец, отличительные признаки: возраст, цвет волос, рост и так далее.
– Рапорт Розенблата, весьма обстоятельный во всем другом, не содержит, к сожалению, именно этих указаний. Кроме того, строго говоря, почему я должен верить вам, а не ему?
– Вы можете не верить мне. Но нет ничего проще, как навести справки в Париже.
– Мы всячески избегаем контакта с иностранной полицией.
Я начинал понимать, что мое положение безвыходно. Судебный аппарат Центрального Государства отличался полным отсутствием гибкости и какого-либо интереса к обвиняемому; функции его были чисто карательными. Тот примитивизм, который характерен для всякого правосудия, здесь был доведен до абсурда. Существовала одна схема: всякий попадавший в суд обвинялся в преступлении против государства и подлежал наказанию. Возможность невиновности обвиняемого теоретически существовала, но ею надлежало пренебрегать. По-видимому, в моих глазах отразилось нечто похожее на отчаяние, потому что следователь сказал:
– Боюсь, что доказать ошибку у вас нет материальной возможности. Тогда вам остается или упорствовать в бесплодном отрицании и тем самым умышленно идти на смерть, или подписать признание и примириться с тем, что вы проведете некоторое время в заключении, после чего вас снова ждет свобода.