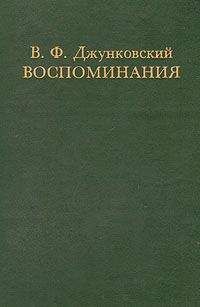Вот в это время в сторону Москвы, утопая колесами в песке, бесшумная, словно фантазия, медленно катила почтовая карета, выкрашенная когда-то в коричневый цвет, старая и уже кое-где пооблупившаяся. По обеим сторонам тракта высился бескрайний чистый лес, и казалось, что он тоже медленно движется, сжимая дорогу, силясь перекинуть через нее свои ветви.
В карете сидели трое — мужчина средних лет, бородатый, одетый скромно, и два крестьянских мальчика.
Все трое, почти по пояс высунувшись в окна, раскрыв широко глаза, с наслаждением любовались дорогой и всем карнавалом майской природы, понимание которой было им, видимо, доступно.
В самом узком месте тракта, где песчаная дорога, казалось, вот-вот совсем исчезнет под натиском тянущихся друг к другу деревьев, за несильным поворотом они вдруг увидели странного пешехода.
Он шел по самому краю дороги тоже по направлению к Москве. На нем был крепко поношенный, мышиного цвета сюртук, на голове черный котелок, он легко ступал по песку босыми ногами, а через плечо были перекинуты сапоги, и свежесрезанная палка, зажатая в руке, четко отбивала шаг.
Путники в карете переглянулись с улыбкой. Экое странное создание! Экипаж поравнялся с пешеходом, даже обогнал его несколько. Человек головы не поворотил. Лицо его в бакенбардах было устремлено вперед, словно какая-то тайная, неотвратимая мысль руководила его движениями и влекла его, босого, по тракту.
— Эй! — крикнули мальчики.
Но он продолжал вышагивать, словно никого, кроме него, и не было среди этого безмолвного лесного океана.
Наконец карета обогнала его.
— Эй! — снова закричали мальчики. — Садись к нам, подвезем!
Тут он, как бы проснувшись, глянул в их сторону, и улыбнулся тонкими, сухими губами, и покачал головой. И едва он успел увидеть два счастливых детских лица, да недлинную бороду мужчины, да спину кучера, как все это тотчас же скрылось в кустах за поворотом.
Двое суток шел Михаил Иванович, ночуя на случайных сеновалах, питаясь захваченным с собой караваем и запивая его ключевой водой. Двое суток дорога благоприятствовала ему, оберегая от разбойников и лишних встреч. Идти босиком было легко и даже приятно. Дикий лес, начавший почти забываться в городской жизни, вдруг словно ожил, вернулся, напомнил о себе, и сердце Шилова дрогнуло. Он шел, дыша лесными испарениями, стараясь держаться в целительной тени, и мысли его, почти все, были чистые и звонкие, как серебряные колокола.
Конечно, когда за спиною осталась будто целая жизнь, а впереди неизвестная, пустая глухота, где возможно все — кнуты и пряники, — будешь, будешь наслаждаться этим лесом, этой погодой, этими пестрыми цветами, далекими от людской суеты и страданий. Конечно, Москва приближается неотвратимо, но пока она где-то там еще, здесь царит покой и тянется следом неугасимое недавнее прошлое, в котором ты был прекрасен, ловок и умен. И хотя там тоже бывало всякое, но ведь Дася-то была, она ведь не придумывалась, белую шейку подставляла. А как же… И были деньги, и был сюртук из коричневого альпага, и трехкомнатный нумер у Севастьянова, и был Гирос, шельма… А он ничего себе был, итальянец этот, этот грек чертов, а может, и цыган, кто ж его знает… На дуб полез, тулуп захватить не позабыл, вот прощелыга! Волки вокруг ходят, а грек этот спит себе в тулупе, будто в люльке, ну и грек!.. А старуха-то чуть косточки не сломала — как обняла. Эвон какая вымахала на подаянии-то! Да вон и я иду, ровно богомолец какой, однако у меня впереди, се муа, Москва, да их высокоблагородие Шеншин с их благородием Шляхтиным готовятся душу из меня вынуть. На молебствие иду, на поклонение!
Так он шел, браво опуская в пыль и песок босые ноги, смеясь и плача, содрогаясь и не теряя присутствия духа, пока не повстречалась ему почтовая станция с постоялым двором. Возле крыльца увидел он давешнюю карету и ближе подходить не стал, а присел на опушке, привалился спиною к стволу, погрузил разгоряченные ноги в прохладную траву и принялся с почтительного расстояния созерцать людей. А люди суетились возле кареты, запрягали лошадей, беседовали на крыльце о чем-то, и этот был, с негустой бородою, высокий, сильный, и два крестьянских мальчика стояли возле него, и он одному из них ладонь положил на русую голову. А напротив стоял станционный смотритель, а из-за плеча его выглядывала растрепанная баба, и шел какой-то веселый разговор, и обрывки смеха долетали до секретного агента.
А ведь мог и он, Шипов, распрекрасно катить себе в карете, когда б не пустил на ветер хрустящих ассигнаций. И спал бы на постоялом дворе, на мягких бы перинах, и кучеру бы кричал: «Пошел, пошел, голуба!» Или же еще в Туле сговорились бы по странной случайности ну хотя бы с этим бородатым: вы, мол, куда? Уж не в Москву ли?.. Так точно, мол, в Москву… Вы не будете возражать, ежели я, например, с вами?.. Помилуйте, буду только рад… Вот так и поехали бы. Мальчики — ангелы, а этот, с бородой, к примеру, сам граф Лев Николаевич… Ну вот, едем. Едем, едем. Он ни об чем не догадывается, я ни об чем таком не говорю. Вот и постоялый… Не угодно ли перекусить?.. Садимся за стол, туда-сюда… Шампанского приказываю… Шампанское пить будете?.. Граф жмется… Э, граф, силь ву пле, я же плачу за все. Щеки у него идут пятнами. Да что вы, мол, да как можно… те-те-те-те, ко-ко-ко-ко… Можно, граф. Я за все плачу, ибо вы мой благодетель… Как? Каким образом?.. А вот таким, говорю, это великая тайна… Ну, тут все смеются, потому что какая может быть тайна в таком деле?.. А она может быть. Ну, значит, едем дальше. А вот и Москва…
В это время карету уже, видимо, подготовили к дороге, потому что кучер полез на козлы, а затем и путники один за другим уселись. Дверца захлопнулась, кнут просвистел, и экипаж покатил. Станционный смотритель и его баба замахали, замахали руками что есть мочи, будто тоже следом намеревались улететь, а потом ушли в дом. Тогда вот Михаил Иванович натянул сапоги, предварительно обтерев их лопухами, приосанился и медленно поплыл к станции.
Внезапно, как это бывает на лесной поляне, накатил вечер. Легла на траву роса. Насекомые угомонились. Деревья затихли. Красное солнце мазнуло по верхушкам деревьев и провалилось куда-то до самого утра.
Михаил Иванович подошел к крыльцу, занес было ногу на единственную ступеньку, как вдруг послышались голоса и на крыльце появился смотритель со своей бабой. Следом за ними вырвался аромат щей и пошел гулять у Шилова под носом.
— Здравия желаем, сударь, — сказал смотритель, удивляясь на невысокого господина в сюртуке, котелке и с палкою. — Милости просим, сударь.
— Что это, они будто пешие пришли? — изумилась баба.
— Бонжюр, — сказал Шипов не очень решительно, — а ведь и впрямь пеший.
Смотритель понимающе засмеялся.
— Колесо сломалось версты три отсюда, — пояснил Шипов, — пущай кучер там того-сего, а я пешочком… Погода царская.
— Милости просим щей горячих.
«А что ж, — подумал Шипов, — была не была. Уж больно дух от них сильный. Авось не подавлюсь». И шагнул в избу.
И тотчас голова у него закружилась, в животе грянула музыка, когда он вошел в горницу, озаренную красноватым огоньком сальной свечки.
Шипов как был в котелке, так и уселся, борясь с голодной слюной. И тут же расторопная баба загремела за печью, заплескала, облако пара промелькнуло в пламени свечи, и перед Михаилом Ивановичем возникла миска, и отполированный многими руками черенок деревянной ложки оказался в кулаке.
«Эх, теперь бы в самый раз опрокинуть одну-другую!» — подумал секретный агент, но постеснялся просить смотрителя и со вздохом погрузил ложку в горячую жижу.
Что там будет, как оно там случится дальше, Шипов не думал, занятый едой. Ложка летала неистово. Миска заметно опоражнивалась. По жилам побежал огонь.
Жить стало легче. Баба с грохотом понесла со стола грязные миски.
— Граф Лев Николаевич вечеряли, — сказал смотритель, — с мальчиками тут были…
— Какой граф? — вздрогнул Шипов.
— Толстой, — сказал смотритель, — граф Толстой, тульские они, у них там имение.
— А, — сказал Шипов, содрогаясь, — это я знаю, а как же… Я думал, кто другой…
— Завсегда, как мимо едут, остановятся… Шутить любят.
— Знаю, а как же, — пробормотал Шипов, — с бородой. Знаю…
«Господи, — подумал он, — это что ж такое? Стало быть, сам граф из кареты меня звал подвезти?»
— Он мимо ехал, — сказал Михаил Иванович, — все к себе в карету приглашал, хе-хе… — И почувствовал, что немного отлегло. — А я ему: мол, нет уж, пуркуа, езжайте с богом, я пройдусь.
— Во-он как! — обрадовался смотритель.
— Родственники мы, — заявил Михаил Иванович, — братья.
«Вот и свиделись с графом!» — подумал он с умилением.
— Крестьянских детишек на кумыс лечить повез, — сказал смотритель.
— Знаю, а как же, — выдавил Шипов, работая ложкой, — это помогает… Они мне тоже кричали все: «Давай к нам, дядя Миша!..» Нет уж, шельмецы, мне пройтись охота…