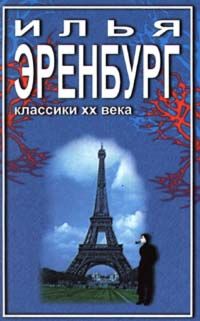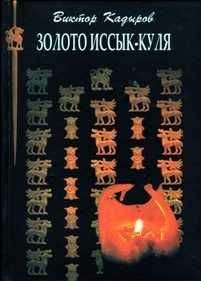Так дошли мы до мест недавних боев меж фортами Дуомоп и Во. Кругом была подлинная пустыня. Ни один камень не уцелел, ни одна былинка не укрылась – все обратилось в серую жижу, покрытую – как бы гнойниками – ямами, вырытыми снарядами, с желтой водицей. Впрочем, кое-где торчали человеческие ноги распухших выползающих из-под земли трупов. «Помните, – сказал нам Учитель, – что война дала нам не только хозяйство мистера Куля, но и этот великий апофеоз!»
«Будет мир, – возразил мистер Куль, – мы учредим еще одно акционерное общество и за год, за два разведем здесь таков хозяйство, что никто не поверит бредням уцелевших солдат, видевших эту пустыню».
«Конечно, – сказал Хуренито, – это отнюдь не завершение и не очищение земли. Пока мистер Куль, пока мистеры Кули живы, будут города, притоны, пушки, доллары, святые книжицы, – словом, все, что нужно порядочному человеку, чтобы в двадцать четыре часа загадить любой кусок так называемой „божьей земли“. Построят, посеют, зароют мертвых поглубже, даже репа будет лучше расти. Но глядите! На минуту как бы прорывается пред вами пелена далеких времен, Это – предчувствие, прообраз последней огненной купели!» На следующий день, несмотря на протесты мосье Дале, ставшего необычайно осторожным, мы направились снова на позиции, а именно к вышке 384. Когда мы дошли до передовых окопов, германская артиллерия неожиданно открыла ураганный огонь по всей линии. Пробраться в тыл не было никакой возможности. Мы забрались в прекрасно оборудованную землянку и, слушая грохот разрывов, с особенной страстностью начали заниматься излюбленным занятием, то есть всячески проклинать войну. Мосье Дзле как будто наших воззрений не разделял, но он тактично молчал; после того, как Эрколе одобрил поведение невоспитанных солдат, он предпочитал вообще не высказываться, дружески приговаривая: «Главное, друзья мои, терпимость и широта взглядов!»
Но Учитель решительно выступил против нас и начал защищать войну. «Выйдя в дорогу, надо идти. Если очень скверно, ускорить шаг. Но не оглядываться назад, где у печки было тепло, ветер в трубе выл по-диккенсовски, а на столике лежал мармелад со щипчиками. Трусы! Вы не дети своего века, вы кринолинщики, романтики, подавившиеся слюной умиления, мусорщики вчерашнего благополучия! Вы спрашиваете, что хорошего дала война? Она хорошо ударила по башке. Это прежде всего. Потом во все „ключи вдохновения“ она подсыпала щепотку стрихнина. Прошлое стало невозможным, и как ни будут стараться люди по воспоминаниям, по выцветшим фотографиям или по шамканью стариков реставрировать свои парфеноны, ничего у них не выйдет, им придется выбирать между Ноевым ковчегом или уборной двадцать первого века. Вам не нравится двадцать первый век? Что же – согласен, он не слишком привлекателен, но, во всяком случае, он будет лучше девятнадцатого, он не станет, как старый ханжа, между двумя свинствами декламировать Шелли или Верлена. И потом впереди – тридцатый, или пятидесятый, или сотый век – век благоденства, и все, что приближает нас хоть на шаг к нему, – благословенно!
Вы клянете войну, а она даже не шаг, она прыжок в грядущее. Она убила все, во имя чего началась, и родила все, что должна была убить. «Война во имя свободы», и оказывается, что народы созрели для великого, откровенного ярма, она больше не могла выносить фикции свободы, ее призрачных благ.
«Война возвысит дух, покончит с гнилым материализмом», –истошно вопили философы и просто добрые люди, по полноте тела склонные к мечтательности. Но война велась с помощью вещи, открыла всем ее смысл и мощь. Разрушая тысячи вещей, материей уничтожая материю, люди научились уважать вещь, как таковую, полюбили ее, как не умели любить в счастливейшие дни мира.
Надеясь на то, что пришел их сезон, священные особы всех культов выползли, вытащили давно забытый товар. – загробные блага. Но война жестоко надула их. Чем ближе стали люди к уничтожению реальной повседневной жизни, тем сильнее она их к себе притягивала.
Война – это ненависть народа к народу, а между прочим, никакие проповедники братства, никакие книжки писателей, никакие путешествия, никакие переселения народов не могли их так сблизить, спаять, срыть рубежи, как эти годы в окопах. Опять шутки войны, все вышло шиворот-навыворот, Оказалось, что ненавидят, восторгаются, трусят, колют, терпят в окопах, хрипят, помирая, гниют все – и французы, и немцы, и русские, и англичане – до удивительности одинаково. Посидели рядышком – заметили. Пока один играл на мандолине, а другой ходил на медведя с рогатиной, казалось что-то разное; может, и правда, медведь ближе, роднее, нежели тренькающий мандолинщик. А послали делать одно дело – сразу ясно стало, даже не близнецы, а двойники, разве что у одного бородавка под лопаткой, а другой часто икает.
Дальше: уж кто-кто на войну надеялся, это защитники старой иерархии, божественного разнообразия, неограниченной личности во всех вариантах: император – не поденщик, Ротшильд – не нищий, поэт – не фабрикант туалетной бумаги, философ – не пастух и прочее. Опять разочарование – если снять горностаевые мантии, фраки и воротнички, посадить в этакие землянки, где ни стихов о мадонне, ни туалетной бумаги, ни прагматизма, оказывается, все кошки серы, так что легко спутать. Конечно, есть погоны, штабы, грациозный тыл и прочее. Но здесь важна пока что не суть, а демонстраций.; Чего стоят одни торчащие из земли неопознанные трупы. Мосье Дэле, ваши шестнадцать классов мертвецов могут смешаться. Что тогда будет?..
Все это я вижу, и когда вы клянете войну, я ее благословляю, как первый день тифозной горячки, от которой человек либо переродится, либо умрет, очистив землю для нового собачества или для победных легионов крыс, муравьев, инфузорий!»
Это поучение Хулио Хуренито я хорошо запомнил. Мы слушали его с напряженным вниманием, не думая об опасности, грозящей нам. Орудийный грохот, трескотня пулеметов, человеческий рев как будто подтверждали неумолимые слова Учителя, и мне кажется, что, если бы в эти минуты пришла к нам смерть в виде приличного осколка тяжелого снаряда, все мы, даже мосье Дале и Эрколе, наиболее к жизни привязанные, встретили бы ее с должным спокойствием.
Когда Учитель кончил говорить, все кругом зловеще смолкло. Раздавались только несвязные ружейные выстрелы. Мы решили вылезть и попытаться пробраться назад. Но наверху ждало нас нечто более страшное, нежели все снаряды. Увидев свет, мы замерли: перед нами стояли немецкие солдаты с ручными гранатами. «Кидай!» – закричал один, но другой возразил: «Это, должно быть, важные птицы, сведем их в штаб дивизии, пристрелить всегда успеем!» Убедившись, что у нас нет оружия, солдаты погнали нас по разным коридорам и воронкам, подталкивая для убедительности прикладами. Особенно их раздражал бедный Айша. Они все время приговаривали, что с удовольствием приколют нас штыками, так как мы не солдаты, а шпионы. Надеяться было не на что, и мы, несмотря на удары, невольно замедляли шаг, понимая, что этот путь – последний.
Мы шли уже мимо германских окопов второй линии. Все, что мы видели, напоминало нам старые привычные картины: принесли в котлах суп, кто-то писал домой открытку, кучка солдат играла в карты. Я вспомнил слова Учителя о новой близости. Но вот – близкие, – они сейчас убьют нас. И такой прекрасной показалась мне жизнь! Я с завистью поглядел на усатого рыжего солдата, который сидел у костра и, сняв рубашку, искал вшей. Жить, как он, сидеть на корточках, выпить бурду из жестяной кружки, потом в грязи уснуть… Как это много и как невозможно!..
Я не знаю, что делал эти полчаса Учитель – и друзья, как пережили они путь к смерти. Я опомнился лишь возле маленького крестьянского домика. Немец грубо втолкнул меня в темную узкую комнату. На столе стояла свеча. Я увидел генеральские погоны и спокойные, совершенно бесстрастные глаза. Я понял – спасения нет, и, пользуясь тем, что Учитель еще с нами, тихо поцеловал его плечо, прощаясь с самым жестоким и любимым из всего, что было в моей короткой сумбурной жизни.
Глава двадцать первая.
О трудах Шмидта, о некоем Кригере и о чайной колбасе
Кто склонен верить в некий тайный, человеку непостижимый смысл житейской кутерьмы, счастливых нелепостей и отчаянных случайностей, тот, бесспорно, задумается над моей книгой. Мы почти ежемесячно переживали смертельную опасность, и всякий раз какое-нибудь «но» выручало нас, – будь то рыбачья лодка, визитная карточка депутата или добродушный смех мосье Дэле. Процент наших избавлений значительно превышает лурдские и Другов чудеса; таким образом, я легко мог бы спекулировать на «провидении», особенно когда вместо расстилала и пары генеральских глаз оказалась тоже пара, но шмидтовских, и бутылка скверного коньяку. Но мне несвойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу, лишь когда слышу треск самолета или когда колеблюсь, – надеть ли мне дождевик. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки. Возможно, что этими особенностями моего – увы! – уже окостеневшего позвоночника, объясняется мое пристрастие к вещам грубым и низменным. Немцев что-то около пятидесяти пяти миллионов. Если можно выиграть в рулетку – 1: 36 шансов, то 1 : 55000000 лишь различие количественное, и отсюда до мистики далеко.