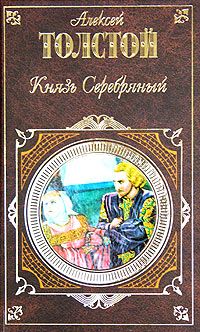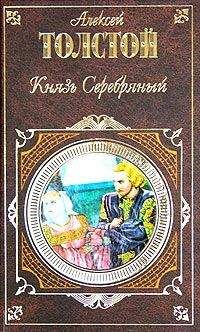Коршун хотел было продолжать, да замолчал и задумался.
– Что ж ты с ребенком сделал? – спросил Перстень.
– Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал? Вестимо что!
Старик опять замолчал.
– Атаман, – сказал он вдруг, – как подумаю об этом, так сердце и защемит. Вот особливо сегодня, как нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как будто вчера было. Да не только то время, а не знаю с чего стало мне вдруг памятно и такое, о чем я давно уж не думал. Говорят, оно не к добру, когда ни с того ни с другого станешь вдруг вспоминать, что уж из памяти вышиб!..
Старик тяжело вздохнул.
Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними крылья, – и бурый коршун упал кувырком к ногам старика. В то же время кречет Адраган плавно нырнул в воздухе и пронесся мимо, не удостоив спуститься на свою жертву.
Митька махнул рукою. Вдали показались сокольники.
– Дядя! – сказал поспешно Перстень. – Забудь прошлое; мы ведь теперь не разбойники, а слепые сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут здесь. Живо, дядя, приосанься, закидай их прибаутками!
Старый разбойник покачал головою.
– Несдобровать мне, – сказал он, показывая на убитого коршуна. – Это меня срезал белый кречет. Вишь, и нет уж его. Убил, да и пропал!
Перстень пристально посмотрел на него и с досадою почесал затылок.
– Слушай, дядя, – сказал он, – кто тебя знает, что с тобою сегодня сталось! Только я тебя неволить не буду. Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твое сердце и недаром чует беду. Оставайся, я один пойду в Слободу.
– Нет, – отвечал Коршун, – я не к тому вел речь. Уж если такая моя доля, чтобы в Слободе голову положить, так нечего оставаться. Видно, мне так на роду написано. А вот к чему я речь вел. Знаешь ли, атаман, на Волге село Богородицкое?
– Как не знать, знаю.
– А около того села, верстах в пяти, место, что зовут Попов Круг?
– И Попов Круг знаю.
– А на Поповом Кругу дуб старый, помнишь?
– И дуб помню; только нет уже того дуба, срубили его.
– Дуб-то срубили, да пень оставили.
– Так что ж с того?
– А вот что. Я-то уж никогда Волги-матушки не увижу, а ты, еще статься может, вернешься на родимую сторонушку. Так когда будешь на Волге, ступай на Попов Круг. Отыщи пень старого дуба. Как отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закат солнечный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю в том месте. Там, – продолжал Коршун, понизив голос, – я в былое время закопал казну богатую. Довольно там лежит корабленников золотых, и червонцев, и рублев серебряных. Откроешь клад, все будет твое. Не взять мне с собою казны на тот свет. А как иной раз подумаешь, что будешь там ответ держать за все, что здесь делал, так в ночное время индо мороз по коже дерет! Ты бы, атаман, как не будет меня, велел по мне панихиду отслужить. Оно все вернее. Да не жалей денег на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужит как следует, ничего не пропустит. А зовут меня, ты знаешь, Амельяном. Это так только люди Коршуном прозвали; а крестили ведь меня Амельяном; так пусть поп отслужит панихиду по Амельяне; а ты уж заплати ему хорошенько, не пожалей денег, атаман; я тебе казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станет!..
Коршуна прервали подскакавшие сокольники.
– Эй вы, убогие! – закричал один из них. – Говорите, куда полетел кречет?
– И рад бы сказать, родимые, – отвечал Перстень, – да вот уж сорок годов глаза запорошило!
– Как так?
– Да пошел раз в горы, с камней лыки драть, вижу, дуб растет, в дупле жареные цыплята пищат. Я влез в дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу! Как тут быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и вылез; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорил; с тех пор ничего не вижу: иной раз щи хлебаю, ложку в ухо сую; чешется нос, а я скребу спину!
– Так это вы, – сказал, смеясь, сокольник, – те слепые, что с царем говорили! Бояре еще и теперь вам смеются. Ну, ребята, мы днем потешали батюшку-государя, а вам придется ночью тешить его царскую милость. Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать!
– Дай бог здоровья его царской милости, – подхватил Коршун, внезапно переменив приемы, – почему не послушать! Коли до ночи не свихнем языков, можем скрозь до утра рассказывать!
– Добро, добро, – сказали сокольники, – в другой раз побалякаем с вами. Теперь едем кречета искать, товарища выручать. Не найдет Трифон Адрагана, быть ему без головы; батюшка-царь не шутит!
Сокольники поскакали в поле. Перстень и Коршун опять уцепились за Митьку и побрели по дороге в Слободу.
Не дошли они до первого подворья, как увидели двух песенников, которые брянчали на балалайках и пели во все горло:
Как у нашего соседа
Весела была беседа!
Когда разбойники с ними поравнялись, один из песенников, крепкий детина с павлиньим пером на шапке, нагнулся к Перстню.
– Уж дней пять твой князь в тюрьме! – сказал он шепотом, продолжая перебирать лады. – Я все разузнал. Завтра ему карачун. Сидит он в большой тюрьме, против Малютина дома. С которого конца петуха пускать?
– Вот с того! – отвечал Перстень, мигнув на сторону, противоположную тюрьме.
Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись от Перстня, будто и не с ним говорил, продолжал тонким голосом:
Как у нашего соседа
Весела была беседа!
Иван Васильевич, утомленный охотою, удалился ранее обыкновенного в свою опочивальню.
Вскоре явился Малюта с тюремными ключами.
На вопрос царя Малюта ответил, что нового ничего не случилось, что Серебряный повинился в том, что стоял за Морозова на Москве, где убил семерых опричников и рассек Вяземскому голову.
– Но, – прибавил Малюта, – не хочет он виниться в умысле на твое царское здравие и на Морозова также показывать не хочет. После заутрени учиним ему пристрастный допрос, а коли он и с пытки и с огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить с ним.
Иоанн не отвечал. Малюта хотел продолжать, но в опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.
– Батюшка, – сказала она, – ты утром прислал сюда двух слепых: сказочники они, что ли; ждут здесь в сенях.
Царь вспомнил свою встречу и приказал позвать слепых.
– Да ты их, батюшка, знаешь ли? – спросила Онуфревна.
– А что?
– Да полно, слепые ли они?
– Как? – сказал Иоанн, и подозрение мигом им овладело.
– Послушай меня, государь, – продолжала мамка, – берегись этих сказочников; чуется мне, что они недоброе затеяли; берегись их, батюшка, послушай меня.
– Что знаешь ты про них? Говори! – сказал Иоанн.
– Не спрашивай меня, батюшка. Мое знанье словами не сказывается; чуется мне, что они недобрые люди, а почему чуется, не спрашивай. Даром я никого еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, может, и теперь бы здравствовала еще!
Малюта поглядел со страхом на мамку.
– Ты чего на меня смотришь? – сказала Онуфревна. – Ты только безвинных губишь, а лихого человека распознать, видно, не твое дело. Чутья-то у тебя на это не хватит, рыжий пес!
– Государь! – воскликнул Малюта. – Дозволь мне попытать этих людей. Я тотчас узнаю, кто они и от кого подосланы!
– Не нужно, – сказал Иоанн, – я их сам попытаю. Где они?
– Тут, батюшка, за дверью, – отвечала Онуфревна, – в сенях стоят.
– Подай мне, Малюта, кольчугу со стены; да ступай, будто домой, а когда войдут они, вернись в сени, притаись с ратниками за этою дверью. Лишь только я кликну, вбегайте и хватайте их. Онуфревна, подай сюда посох.
Царь вздел кольчугу, надел поверх нее черный стихарь, лег на постель и положил возле себя тот самый посох, или осён, которым незадолго перед тем пронзил ногу гонцу князя Курбского.
– Теперь пусть войдут! – сказал он.
Малюта положил ключи под царское изголовье и вышел вместе с мамкою. Иконные лампады слабо освещали избу. Царь с видом усталости лежал на одре.
– Войдите, убогие, – сказала мамка, – царь велел!
Перстень и Коршун вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокруг себя руками.
Одним быстрым взглядом Перстень обозрел избу и находившиеся в ней предметы.
Налево от двери была лежанка; в переднем углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было проделано в стене окно, которое никогда не затворялось ставнем, ибо царь любил, чтобы первые лучи солнца проникали в его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск ее играл на пестрых изразцах лежанки.
– Здравствуйте, слепые, муромские калашники, вертячие бобы! – сказал царь, пристально, но неприметно вглядываясь в черты разбойников.
– Много лет здравствовать твоей царской милости! – отвечали Перстень и Коршун, кланяясь земно. – Заступи, спаси и помилуй тя мати божия, что жалеешь ты нас, скудных, убогих людей, по земли ходяших, по воды бродящих, света божия не видящих! Сохрани тебя святый Петр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма со Демьяном, хутынские чудотворцы и все святые угодники! Создай тебе господи, о чем ты молишь и просишь! Вечно бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилось, сладко спалось! А супостатам твоим вечно б икалось и голодалось; каждый бы день их дугою корчило, бараньим рогом коробило!