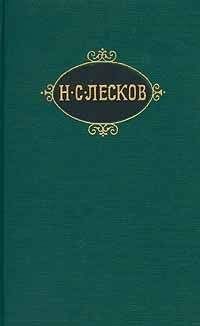Мягкое, миролюбивое, христианское настроение этого писателя оказало чрезвычайно сильное влияние на обоих молодых людей и изменило путь их жизни и деятельности. Первое, чем повредил им Михаил, выразилось тем, что ни Брянчанинов, ни Чихачев не захотели воевать и не могли сносить ничего того, к чему обязывала их военная служба, для которой они были приготовлены своим специальным военным воспитанием. Потом они не попадали в общий тон тогдашнего инженерного ведомства, где тогда инспекторствовал генерал Ламновский, имя которого было исторически связано с поставкою в казну мрамора, почему его и звали «мраморным». В инженерном ведомстве многие тогда были заняты заботами о наживе и старались ставить это дело «правильно и братски», — вырабатывали систему самовознаграждения.
«Монахи» не хотели ни убивать людей, ни обворовывать государства и потому, может быть по неопытности, сочли для себя невозможною инженерную и военную карьеру и решили удалиться от нее, несмотря на то, что она могла им очень улыбаться, при их хороших родственных связях и при особенном внимании императора Николая Павловича к Брянчанинову. Государь хотя о нем теперь уже не осведомлялся так часто, как прежде, но если бы Брянчанинов захотел, то ему, при его упомянутых родственных связях, всегда было легко напомнить о себе государю, и тот, без сомнения, оказал бы ему свою всесильную помощь. Брянчанинов, однако, этого не только не искал, но даже удерживал родных от всяких о нем забот в этом роде. Он старался держать себя незаметно и скромно и как будто имел на уме что-то другое.
Совершенно так же вел себя и Чихачев. А между тем они оба окончили офицерские классы и были выпущены на службу: Брянчанинов из верхнего класса в Динабург, а Чихачев из нижнего — в учебный саперный батальон. Тут они на время расстались, и в 1827 году Брянчанинов выпросился в отставку и ушел в свирский монастырь, где и остался послушником. По другим сведениям это было иначе, и это интересно, потому что вторая версия содержательнее и полнее выражает поэтическую борьбу молодых аскетов, как о ней рассказывали в обществе.
По рассказам современников, Брянчанинов и Чихачев колебались уходить из мира в монастырь и решились на это только тогда, когда представилась необходимость взяться за оружие для настоящих военных действий.
Как только у нас возгорелась война с Турциею, то Чихачев и Брянчанинов оба разом подали просьбы об отставке. Это было и странно, и незаконно, и даже постыдно, так как представляло их трусами, но тем не менее они ни на что это не посмотрели и просили выпустить их из военной службы в отставку.
Истинная причина их уклонения от военной службы в прошениях их была не объяснена, но их семейным и друзьям было известно, что она заключалась в том, что они находили военное дело несовместным с своими христианскими убеждениями. Как люди последовательные и искренние, они не хотели не только воевать оружием, но находили, что не могут и служить приготовлением средств к войне. Впрочем, и самое возведение оборон они не усматривали возможности производить с полною честностью. Им казалось, что надо было «попасть в систему самовознаграждения» или противодействовать тем, чьи приказания должно было исполнять.
Конечно, со стороны молодых людей тут было, может быть, значительное преувеличение опасности, но тогда взятки царили повсюду, и сам государь Николай Павлович, как явствует из многих напечатанных впоследствии анекдотов, находил себя не в силах остановить это страшнейшее зло его времени.
Нашим «монахам» казалось, что служить честно — это значило постоянно поперечить всем желающим наживаться, и надо порождать распри и несогласия, без всякой надежды отстоять правду и не допускать повсюду царствовавших злоупотреблений. Они поняли, что это подвиг, требующий такой большой силы, какой они в себе не находили, и потому они решились бежать.
Борец более смелый еще подрастал.
Когда государю было доложено, что Брянчанинов и Чихачев подали прошения об отставке, император разгневался и сказал: «Это вздор!» — и их не выпустили. Надо было покориться, но при хороших связях тогда удавалось многое, что для людей обыкновенного положения было невозможно. Через некоторое время, когда войска наши уже двинулись в Турцию, Брянчанинов и Чихачев опять подали вторично просьбы об отставке, но в этот раз прибегнули уже к содействию тех родственных связей, которыми не хотели пользоваться до сей поры для других целей. Связи эти были столь сильны, что дело прошло как-то мимо государя, и Чихачева с Брянчаниновым тихонько выпустили в отставку, «под сурдинкою».
Это было будто бы уже на походе, и молодые друзья должны были отстать от своих частей при пересудах и ропоте своих товарищей, из которых одни им завидовали, как баричам, уходившим от службы в опасное время, а другие старались дать им чувствовать свое презрение, как трусам.
Друзья предвидели такое истолкование своего поступка и перенесли эти неприятности с давно выработанным в себе спокойствием. В утешение себе они знали, что они не трусы и удаляются от войны не из боязни смерти, а потому они не обижались, а спешили как можно скорее и незаметнее «бежать из армии».
Выход их будто бы в самом деле был похож на побег: об отпуске их из частей старались не говорить — их будто куда-то «послали», и потом они совсем скрылись, избежав, таким образом, еще многих других неприятностей.[17]
Сначала они будто отправились к северу вместе, но на дороге расстались: Брянчанинов поехал в Петербург, где пребывание его казалось очень опасным, потому что он тут беспрестанно рисковал попасть в глаза императору, а Чихачев приехал к своей сестре Ольге Васильевне, по мужу Кутузовой. Он говорил о своем возвращении не много и не ясно, а о дальнейших своих намерениях совсем не говорил ничего. Его находили «странным», как будто потерянным или отрешенным от мира и не предающимся живо ни радостям, ни печалям. Это было очень тяжело видеть в молодом человеке, и семейные Чихачева общими силами старались узнать, «что у него на душе». Одни думали, «влюблен», другим казалось, «замешан», а один родственник с волтерьянскою заправкой уверял, что племянник «помешан».
— На чем?
— Гордец. Хочет быть лучше всех… Набожный чистоплюй… Пусть мир тонет в смраде греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке, и свои перышки перечищать носиком… Чистоплюй!
На этого волтерьянца махали рукою, а Чихачев в один прекрасный день пропал из дома.
Мать и сестра его были в отчаянии. Особенно мать, беспокойства которой возрастали от целой тучи предположений и догадок, одна тревожнее другой. Положение было ужасное. Семья и старалась искать беглеца и в то же время боялась, чтобы не распространился широко слух об его исчезновении. Надо было, чтобы это не дошло как-нибудь в Петербурге до государя. Всего ужасно боялись — и надо было бояться. Начались и очень долго продолжались в величайшем секрете большие поиски, в которых принимали участие родственники пропавшего и особенно преданные и доверенные крепостные слуги, — шла, с кем можно, осторожная, но горячая переписка, но все это оставалось без результатов. Спросили даже волтерьянца, но тот вместо ответа посоветовал читать житие Алексея человека божия, так как, по его мнению, Чихачев будто всего вероятнее поревнует примеру этого святого. На «бесчувственного циника» кивали головами, а следов пропавшего беглеца все-таки не находили нигде. Семья и особенно мать переносили тяжкое горе и вдобавок должны были молчать и не показывать вида, что молодой человек пропал, и так продолжалось до тех пор, пока, наконец, он сам объявился в Николо-Бабаевском монастыре на Волге. Волтерьянец угадывал всех ближе к истине: оба друга, Чихачев и Брянчанинов, появились вместе в Бабайки, и тут же оба вместе начали одновременно свой путь в иночестве,[18] которое было им как бы врожденно и в школе напророчено.
Где бежавший из имения О. В. Кутузовой Чихачев встретился с появившимся на короткое время в Петербурге Брянчаниновым — это осталось их тайною, которая, может быть, и не представляет ничего особенно интересного, но тем не менее они об этом никогда не говорили. Важен тот факт, как и где началось это «последование Алексею человеку божию» и чем оно разрешилось, представив собою нам два врожденные характера, достопримечательные своею цельностью и последовательностью.
Их не в силах были изменить ни среда школы и ее направление, ни самый лестный фавор, ни строгое осуждение, ни укоризны трусостью как пороком, который должен бы несносно уязвлять благородное чувство, если бы оно не видало себе оправдания в идеале высшем. Пусть, быть может, этот идеал понят и узко, но тем не менее он требовал настоящего мужества для своего целостного осуществления. И у Брянчанинова с Чихачевым не оказалось недостатка в мужестве.