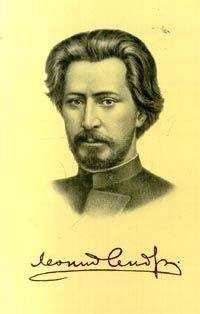— Кто-то забыт. Все ли здесь?
— Все.
— Кто-то забыт. Кто-то бродит в темноте?
— Не знаю.
— Кто-то огромный бродит в темноте. Кто-то забыт. Кто забыт?
— Не знаю.
Грозное и таинственное время.
Вечерело в лесу.
К Погодину подошел Еремей Гнедых, мужик высокий и худой, туго подпоясанный поверх широкого армяка, насупил брови над провалившимися глазами и сурово доложил:
— Александр Иваныч! Построечку-то надо бы расширить, не вмещат, народу обидно.
— Ну и расширь.
— Федот работать не хочет. Я, говорит, сюда барином жить пришел, а не бревна таскать, пускай тебе медведь потаскает, а не я.
Около костра засмеялись. Петруша, смеясь, крикнул певучим, задушевным тенорком:
— Гоните-ка его, Александр Иваныч. Ему говорят, завтра соорудим шалаш, не лезть же на ночь за хворостом, глаза выколешь, а он страдать: построечку да построечку!
Еремей, не глядя в ту сторону, мрачно сказал:
— Холодно без прикрышки, сдохнешь.
— Привык с бабой-то на печке! — засмеялся Федот и уже сердито добавил: — Не сдохнешь, не дохнут же люди.
— Да и врет он, Александр Иваныч!.. Какой холод, раз костер не угасат. А уж так, не может, чтобы знака своего не поставил землевладелец! Нынче только пришел, а уж построечку, — помещик!
Опять засмеялись у костра; ни разу не улыбнувшийся Еремей повернул прочь от Саши и привалился к огню. Еще синел уходящий день на острых скулах и широком, прямом носу, а вокруг глаз под козырьком уже собиралась ночь в красных отсветах пламени, чернела в бороде и под усами. Как завороженный, уставился он на огонь, смотрел не мигая; и все краснее становилось мрачное, будто из дуба резаное лицо по мере того, как погасал над деревьями долгий майский вечер. И будто не слыхал, как про него говорил слабым голосом заморенный, чуть живой бродяжка Мамон, от голоду еле добравшийся до становища:
— Сколько я видал на земле людей, все люди, братцы, глупые. Нашему брату, вольному человеку, крыша над головой все равно, что гроб, а они этого никогда не понимают, заживо хоронятся да тухнут.
Федот, молодой, по виду чахоточный парень, недоверчиво кашлянул:
— А зимой?.. То-то хорошо ты вчера пришел. Тут люди, брат, за делом собрались, а не лясы точить. Шел бы ты дальше, не проедался.
Петруша певуче поддержал:
— Равнодушный человек!.. Тут люди по всей России маются, за Бога-истину живот кладут, а он только и знает, что скулит: беспорядок, много-де стражников по дорогам скачут, моему-де хождению мешают…
И крикнул:
— Александр Иваныч, надо нам такой порядок установить, чтобы как только бродяга, так его в шею. Ненужный он зверь, вроде суслика.
Бродяга покраснел от обиды и непонимания; и, хотя собирался еще денек погостить и покормиться, обиженно пробормотал:
— Завтра проследую дальше. Господи, и с силой-то собраться не дадут, так и гонют, так и гонют. Много я вашего хлеба наел.
— Никто тебя не звал.
— Господи, слышу, молва идет: объявились лесные братья. Ну, а если братья, так не мимо же идти, а они, братья-то, на манер волков. И все гонют, все гонют.
Долго скулил голодный и обиженный бродяга. Под кручею шумел и дымился к ночи весенний ручей, потрескивал костер в сырых ветвях и крючил молодые водянистые листочки, и все, вместе с тихой и жалобной речью бродяги, певучими ответами Петруши, сливалось в одну бесконечную и заунывную песню. «Вот кого я люблю!» — думал Саша про Еремея, не отводя глаз от застывшего в огненном озарении сурового лица, равнодушного к шутке и разговору и так глубоко погруженного в думу, словно весь лес и вся земля думали вместе с ним. Только раз шевельнулись усы, и в Петрушину плавную речь, как камни в воду, упали громкие и словно равнодушные слова:
— Без меня меня женили, я на мельнице был.
Саша заинтересованно окликнул:
— Что ты говоришь, Еремей?
— А то и говорю: без меня меня женили.
— Это я про Господарственную Думу рассказываю, — подхватил Петруша, — что решила Дума мужичкам землю дать… в газетах писали, Александр Иваныч.
Петруша был грамотный, но не столько читал газеты, которые трудно было достать, сколько произвольно сочинял; сочинив же, немедленно сам верил, что это из газет. На слова его отзывался Федот, закричав громко и гневно:
— Врут, не дадут!.. Пока тонут, топор сулят, а вынырнут — и топорища жаль……., один с ними разговор, мать их…
«И на что им земля? — думал с неодобрением бродяжка, — вот дадут им землю, а они первым делом забором огородятся, лазай тут. Нет, душно мне, завтра уйду».
И опять шумел в овраге ручей, и лесная глушь звенела тихими голосами: чудесный месяц май! — в нем и ночью не засыпает земля, гонит траву, толкает прошлогодний лист и живыми соками бродит по деревам, шуршит, пришептывается, гукает по далям. Склонив голову на руки, сидел на пенечке Саша и не то думал, не то грезил — под стать текли образы, безболезненно и тихо меняя формы свои, как облака. Думал о том, как быстро ржавеет оружие от лесной сырости и какое лицо у Еремея Гнедых; тихо забеспокоился, отчего так долго не возвращаются с охоты Колесников и матрос, и сейчас же себе ответил: «Ничего, придут, я слышу их шаги», — хотя никаких шагов не слыхал; вдруг заслушался ручья. Но, что бы ни приходило в голову его, одно чувствовалось неизменно: певучая радость и такой великий и благостный покой, какой бывает только на Троицу, после обедни, когда идешь среди цветущих яблонь, а вдалеке у притвора церковного поют слепцы. Или и это представлялось Саше? — Минутами и сам удивлялся тихо: не пора ли беспокойства настала, откуда же покой и радость? Хорошо бы также найти какие-то совсем особые слова и так сказать их Еремею, чтоб осветилось его темное лицо и тоска отпала от сердца, — вот и костер его не греет, снаружи озаряет, а в глубину до сердца не идет. Погоди, Еремей.
Высоким голосом испуганно закричал Петруша:
— Кто идет? Откликайся, что прешь, как медведь!
Саша схватился за маузер, стоявший возле по совету Колесникова: даже солдат может свое оружие положить в сторону, а мы никогда, и ешь и спи с ним; не для других, так для себя понадобится. Но услыхал как раз голос Василия и приветливо в темноте улыбнулся. Гудел Колесников:
— Свои, свои, Петруша.
В круг от костра вступило четверо: еще мужик Иван Гнедых, однофамилец Еремея, и Васька Соловьев, щеголь; и сразу стало шумно и весело. Даже Еремей повеселел, во все стороны заулыбался и вздернул на лоб картуз.
— Много настреляли? — спросил Саша, тоже улыбаясь и за руку здороваясь с Соловьевым, которого еще не видал.
— Никак нет, Александр Иванович, — ничего, — ответил Андрей Иваныч. — Да разве с пулей можно? У меня тетерка из-под ног ушла.
— Стрелять не умеете, Андрей Иваныч, — пошутил Колесников, так как матрос был лучшим стрелком в отряде и уступал только Погодину. — Но как, Саша, чудесно, того-этого, вот вовремя на дачу выбрались.
Федот захохотал и закашлялся; во всю бороду ухмыльнулся Еремей и сказал:
— Шутят.
— Иван хлеба да селедок купил. Вонючие, того-этого. Садись, Соловьев, иль ноги не отмахались? Потом, Саша, расскажу.
Соловьев, подбористый малый, с пронзительными, то слишком ласковыми и почтительными, то недоверчивыми глазами, по манере недавний солдат, откинул полы чистенькой поддевки и сел, поблагодарив:
— Покорно благодарю, Василь Василич.
Запел Петруша:
— Нет, вы вот что скажите, Василь Василич: опять ведь баба с яйцами приходила!
Мужики засмеялись.
— Вчерась одна, нынче другая, — и откуда они, сороки, проведали? Словно и впрямь дачники понаехали. Даром, говорят, бери, а бери, назад не понесу.
— Далеко молва идет, — отозвался слабо бродяга, — я еще где услыхал! Так и говорят: у нас ничего нет, а иди, брат, к Жигалеву…
— Жегулеву, — поправил матрос.
— Жигулеву, Александру Иванычу, он тебя к делу приспособит и поесть даст. И за хлеб-соль, братцы, спасибо, а что касается дела, то уж не невольте, не по моей части кровь…
Нахмурились. Федот взмахнул кулаком и крикнул:
— Молчи, гусыня!
Бродяжка робко отстранился, бормоча:
— Меня и саратовские лесные братья уважили, меня и…
— Не тронь его, — приказал Саша, слегка покрасневший, когда упомянулось его новое имя. — Завтра он уйдет.
Колесников смотрел с любовью на его окрепшее, в несколько дней на года вперед скакнувшее лицо и задумался внезапно об этой самой загадочной молве, что одновременно и сразу, казалось, во многих местах вспыхнула о Сашке Жегулеве, задолго опережая всякие события и прокладывая к становищу невидимую тропу. «Болтают, конечно, — думал он, — но не столько болтают, сколько ждут, носом по ветру чуют. Зарумянился мой черный Саша и глазами поблескивает, понял, что это значит: Сашка Жегулев! Отходи, Саша, отходи».