произнес канделябр.
— Похоже на Санкт-Петербург, — определил один из абажуров.
«Северная столица», — подумали вещи.
По стенам рос мох, сочилась вода.
— Каждый из вас — Харон, — кричал разносчик газет, — в час своих похорон!
— Ии-и, ии-и, — захлебываясь, кричал маяк в пяти километрах к востоку.
Вечера
— Чу, — рассказывает с упоеньем Матвей, — идут. Глянул — а ноги у них синие, волосы белые, руки в разные стороны…
— Хватит, папка, — просит сынишка, — ведь уписяюсь.
— Действительно, — говорит жена, — третий вечер. Уймись.
Матвей выходит во двор, выкуривает сигаретку.
Не верь ушам своим
Летел самолет в Гватемалу. Его ожидала целая куча народу.
Стюардесса устала от полета. Выходит в салон первого класса и говорит:
— Все, карапузики, быстро слили воду. Полет считается временно прекращенным, попробуем в следующий раз.
— Как так, — кричат карапузики, — нам же, ептить, до Латинской-то Америки не дотопать.
— Точно, — ухмыляется женщина, — не дотопать. За дотопать надо было при жизни молиться. А так — все.
— Не имеете права, — разгневались засранцы, — мы — пассажиры, а ты — работница полета.
— Нет, — говорит стюардесса, — все это херня, что вы тут говорите, будем падать.
Сказала и ушла. Что тут было! Титаник. Только через час пилот сказал, что худшее позади, и Евгения Матвеевна легла спать.
Дорожные знаки
Илюшечка по винтовой лестнице спустился в кафе. Жарили зерна, и весь квартал пропах. Увидев семисвечник на картине, сказал:
— Дорожные знаки.
— Да, — со смехом согласился бармен, — времечко…
— Была на бульваре. Медный всадник ехал, — громко сказала старая поэтесса.
Все помолчали.
В окне прошел солдат.
— Я завтра отдам за квартиру, — молил хозяйку Илюшечка, — это точно-преточно…
— Я скатерть новую постелила, — говорила хозяйка, — с хрустом, как вы любите.
Илюшечка взял с полки книгу и прочитал абзац об ангельском чине Господств.
От дождей одеяло и вся остальная постель были сырыми, холодными.
— Как в пруду, — думал он, закрывая глаза, — будто утонул, а всплыть не можешь.
Музыканты
Сеня поцеловал фотографию Ростроповича и съел арбуз.
— Да куда ж ты столько? — сказала больная мама.
— Не лезьте, маман, — возразил Сеня, — это гениальный музыкант.
Серый джип
Милиционера сбило ГАИ. Сбило и поехало дальше.
— Кошмар, — сказал хирург, — в ваших легких столько никотина!
Трубари
Голуби насмерть заклевали учительницу физики.
— Ептить, — ужасался народ, — какая испитая морда!
Достоевский
Великий писатель пообедал и говорит по телефону:
— Быстро мне сюда Достоевского! Три тома. Читать буду.
— Поздно, батенька, — отвечает ему телефон, — в детстве не песиков теребить надо было, а книги читать.
Неспокойная я
Урожай получился — песня. Михей сел на трактор и, запевая песнь, поехал.
— Та-рам, та-рам, — пело в тракторе.
— Курлы, курлы, — защищалась природа.
— Ти-рьям, ту-дым, — настаивал Михей.
— Ужо тебе, — стонала ночью женка.
Есенин повесился.
Серебряный рык
Пролетарии, наконец, взяли и соединились. Чудесно.
Ходят, бродят, о любви говорят. Руки свои разъять не в силах. Стихи рассказывают, о еде не помнят.
— Ни хрена, — сказал капиталист Федя, — прервать эту голубизну!
Взял и расстрелял восемь человек.
— Ах, ты сука, — сказал пролетарьят и был по-своему прав.
Ранний крест
Даулих изнасиловали в городском саду возле лодочной станции.
Насильников было трое. Почти безусые молодые парни, держа за руки, бережно срывали с нее платье, и старшенький, стягивая трусы, целовал в живот.
Барбара смотрела на них и тихо думала, что вот и ей Бог послал счастье.
— О сопротивленьи, — сказал младшенький, погладив ее горло узким лезвием, — не может быть и речи.
Барбара улыбнулась каким-то своим воспоминаниям и легла в мокрую после ночного дождя траву.
Клавесин
Несколько мужиков на перекрестке встретилось. Стоят — думают. Жара. Жаворонки. Рожь уродила, но пропала. Жизни — нет.
Постояв, решились изведать, где жизнь есть и кому она нравится.
Выпили браги, орехов поели и заснули. Лежат — храпят. В лесу Пришвин ходит. Хозяин тайги.
Проснулись через неделю. Поспали, вообще, неплохо. И пошли по Святой Руси.
А Русь, как позже оказалось, такая непростая, такая загадочная. Ужас.
— Надо же, — думали мужики, — надо же.
Кроме того, есть в ней то, чего нигде-нигде нет. И этого гораздо-гораздо больше, чем то, что есть обычно. Что же обычно есть, мужики разумели предполагая. Получалось разно, своеобычно, хотя и несколько диковато.
О евреях не говорили.
А тем временем купец Расстебаев выкинул к такой матери из дому клавесин. Устал от навязчивых звуков.
Жена рыдала.
Тарахтель
Ленчик Купорос курил цигарку в тамбуре электрички. Привязался к нему пьяный.
— Чу, — кричит Ленчик на пьяницу. Но тот игнорирует. Взял тогда Ленчик и оторвал ему голову. Покатилась голова. Ленчик же, по приезду, зашел в церковь — раскаяться. Главу склонил — плачет.
— Крокодил зверь водный, — назидательно говорил после этого случая батюшка прихожанам. — Егда иметь человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает; а егда главу от тела оторвав, зря по ней плачет.
«Тщимся поелику возможно», — думали прихожане.
Звездочка светлая, звездочка ранняя
Накормили кабана мокрыми газетами. Наелся — мочи нет. Лежит, разгрустился. Вдруг — сон.
Идет, значит, кабан по улице Перовского. Денек весенний, лужи, тепло. Хорошо.
Вдруг — аэроплан. Да с пулеметами, да с листовками, — революция.
«Кошмар, — думает кабан, — ну и страна!»
Проснулся. Ночь. Звезды где-то там, вероятно, над крышей. В брюхе — восемь килограммов прессы. Пахнет навозом или чем-то весьма похожим.
«Какие тревожные сны, — подумал, вставая, — какие странные и тревожные сны…»
Юнкера
Серж Байрабин приехал к тетке в Томск. А тетка — раз — и влюбилась в племянника.
Вот так поворот! Не угадать!
Утром Серж встает, а у кровати цветы пахнут и кофе пар испускает на тумбочке.
«Ой, ля-ля, — подумал юноша, — ой, ля-ля».
Соленый хрен
По Беловежской Пуще шел белорус. Навстречу шли эстонцы.
— Ага, — сказал белорус, — ага.
Взял и застрелил их.
Восемь покойников.
Пришел в деревню. Наелся картошки. Глянул в окно.
А там эстонцы стоят в длинных белых рубахах, взявшись за руки, с нимбами, и говорят по-эстонски.
— Убийца я, — подумал белорус и заплакал.
Соленые слезы падали куда попало, а в душе воцарилась зима.
Мельхиор
Майор Рязанцев выпил водки. В окна стучались дожди. Жена оказалась блядью.
— Что там Мазик? — спросил он у сержанта.
— Нормально, — сказал сержант.
— Мазик, — говорил майор устало, — мне нужен не ты, но твои подельники. Если не скажешь — пресс-хата. Уразумел, падла?
Сашка оглянулся и облизал губы.
Вечером, когда за ним гахнула дверь, он увидел четырех веселых пидарасов. Они шли на него, расставив руки, болтая членом, в устах — карамель.
«Не осилить», — смекнул юноша, и зубами стал рвать вены, разбрызгивая
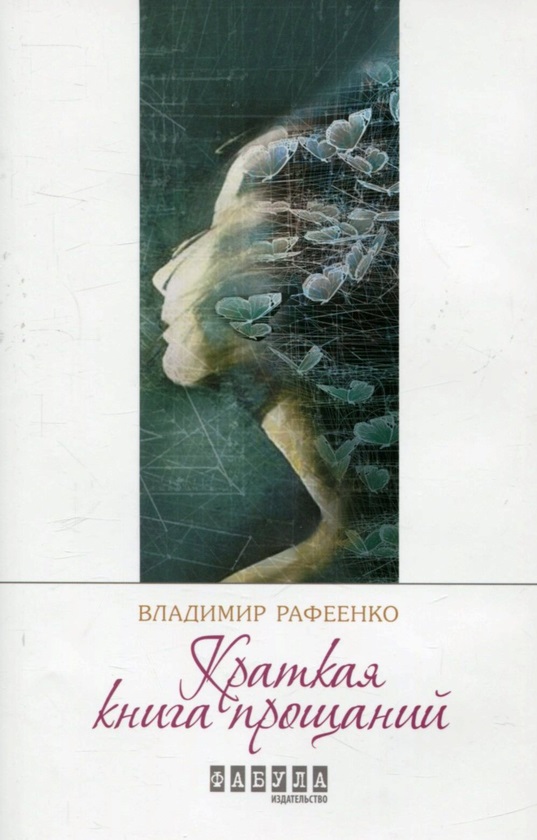

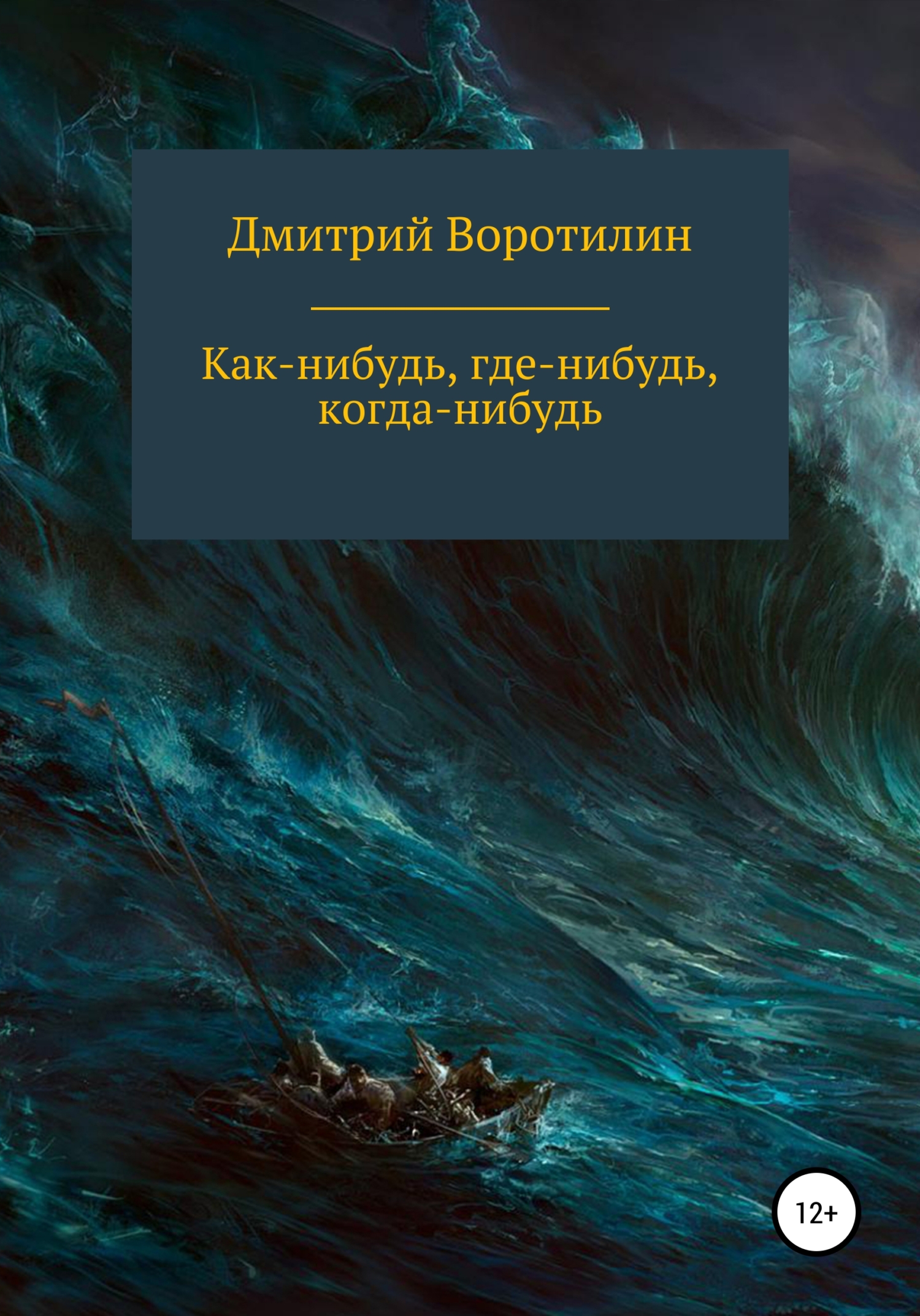
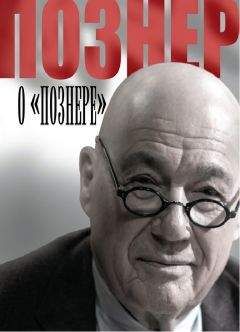
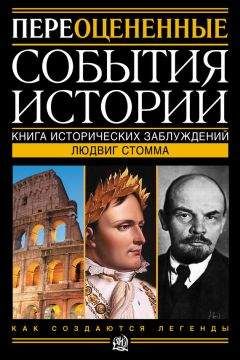
![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](https://cdn.my-library.info/books/120215/120215.jpg)