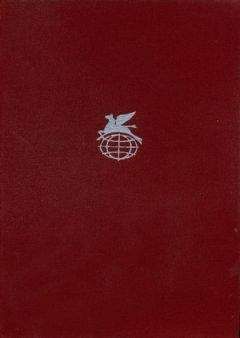— Чего же это ты озорничаешь?
— Скушно очень учиться.
— Скучно? Это, брат, неверно что-то. Было бы скучно учиться — учился бы ты плохо, а вот учителя свидетельствуют, что хорошо ты учишься. Значит, есть что-то другое.
Вынув маленькую книжку из-за пазухи, он записал:
— ПешкОв Алексей. Так. А ты всё-таки сдерживался бы, брат, не озорничал бы много-то! Немножко можно, а уж много-то досадно людям бывает! Так ли я говорю, дети?
Множество голосов весело ответили:
— Так.
— Вы сами то ведь не много озорничаете?
Мальчишки, ухмыляясь, заговорили:
— Нет. Тоже много! Много!
Епископ отклонился на спинку стула, прижал меня к себе и удивлённо сказал, так, что все — даже учитель с попом — засмеялись:
— Экое дело, братцы мои, ведь и я тоже в ваши-то годы великим озорником был! Отчего бы это, братцы?
Дети смеялись, он расспрашивал их, ловко путая всех, заставляя возражать друг другу, и всё усугублял весёлость. Наконец встал и сказал:
— Хорошо с вами, озорники, да пора ехать мне!
Поднял руку, смахнув рукав к плечу, и, крестя всех широкими взмахами, благословил:
— Во имя отца и сына и святаго духа, благословляю вас на добрые труды! Прощайте.
Все закричали:
— Прощайте, владыко! Опять приезжайте.
Кивая клобуком, он говорил:
— Я — приеду, приеду! Я вам книжек привезу!
И сказал учителю, выплывая из класса:
— Отпустите-ка их домой!
Он вывел меня за руку в сени и там сказал тихонько, наклонясь ко мне:
— Так ты — сдерживайся, ладно? Я ведь понимаю, зачем ты озорничаешь! Ну, прощай, брат!
Я был очень взволнован, какое-то особенное чувство кипело в груди, и даже, — когда учитель, распустив класс, оставил меня и стал говорить, что теперь я должен держаться тише воды, ниже травы, — выслушал его внимательно, охотно.
Поп, надевая шубу, ласково гудел:
— Отныне ты на моих уроках должен присутствовать! Да. Должен. Но — сиди смиренно! Да. Смирно.
Поправились дела мои в школе — дома разыгралась скверная история: я украл у матери рубль. Это было преступлением без заранее обдуманного намерения: однажды вечером мать ушла куда-то, оставив меня домовничать с ребёнком; скучая, я развернул одну из книг вотчима — «Записки врача» Дюма-отца — и между страниц увидал два билета — в десять рублей и в рубль. Книга была непонятна, я закрыл её и вдруг сообразил, что за рубль можно купить не только «Священную историю», но, наверное, и книгу о Робинзоне. Что такая книга существует, я узнал незадолго перед этим в школе: в морозный день, во время перемены, я рассказывал мальчикам сказку, вдруг один из них презрительно заметил:
— Сказки — чушь, а вот Робинзон — это настоящая история!
Нашлось ещё несколько мальчиков, читавших Робинзона, все хвалили эту книгу, я был обижен, что бабушкина сказка не понравилась, и тогда же решил прочитать Робинзона, чтобы тоже сказать о нём — это чушь!
На другой день я принёс в школу «Священную историю» и два растрёпанных томика сказок Андерсена, три фунта белого хлеба и фунт колбасы. В тёмной, маленькой лавочке у ограды Владимирской церкви был и Робинзон, тощая книжонка в жёлтой обложке, и на первом листе изображён бородатый человек в меховом колпаке, в звериной шкуре на плечах, — это мне не понравилось, а сказки даже и по внешности были милые, несмотря на то что растрёпаны.
Во время большой перемены я разделил с мальчиками хлеб и колбасу, и мы начали читать удивительную сказку «Соловей» — она сразу взяла всех за сердце.
«В Китае все жители — китайцы, и сам император — китаец», — помню, как приятно удивила меня эта фраза своей простой, весело улыбающейся музыкой и ещё чем-то удивительно хорошим.
Мне не удалось дочитать «Соловья», в школе — не хватило времени, а когда я пришёл домой, мать, стоявшая у шестка со сковородником в руках, поджаривая яичницу, спросила меня странным, погашенным голосом:
— Ты взял рубль?
— Взял; вот — книги…
Сковородником она меня и побила весьма усердно, а книги Андерсена отняла и навсегда спрятала куда-то, что было горше побоев.
Несколько дней я не ходил в школу, а за это время вотчим, должно быть, рассказал о подвиге моём сослуживцам, те — своим детям, один из них принёс эту историю в школу, и, когда я пришёл учиться, меня встретили новой кличкой — вор. Коротко и ясно, но — неправильно: ведь у не скрыл, что рубль взят мною. Попытался объяснить это — мне не поверили, тогда я ушёл домой и сказал матери, что в школу не пойду больше.
Сидя у окна, снова беременная, серая, с безумными, замученными глазами, она кормила брата Сашу и смотрела на меня, открыв рот, как рыба.
— Ты — врёшь, — тихо сказала она. — Никто не может знать, что ты взял рубль.
— Поди спроси.
— Ты сам проболтался. Ну, скажи — сам? Смотри, я сама узнаю завтра, кто принёс это в школу!
Я назвал ученика. Лицо её жалобно сморщилось и начало таять слезами.
Я ушёл в кухню, лёг на свою постель, устроенную за печью на ящиках, лежал и слушал, как в комнате тихонько воет мать.
— Боже мой, боже мой…
Терпения не стало лежать в противном запахе нагретых, сальных тряпок, я встал, пошёл на двор, но мать крикнула:
— Куда ты? Куда? Иди ко мне!..
Потом мы сидели на полу, Саша лежал в коленях матери, хватал пуговицы её платья, кланялся и говорил:
— Бувуга, — что означало: пуговка.
Я сидел, прижавшись к боку матери, она говорила, обняв меня:
— Мы — бедные, у нас каждая копейка, каждая копейка…
И всё не договаривала чего-то, тиская меня горячей рукою.
— Экая дрянь… дрянь! — вдруг сказала она слова, которые я уже слышал от неё однажды.
Саша повторил:
— Дянь!
Странный это был мальчик: неуклюжий, большеголовый, он смотрел на всё вокруг прекрасными синими глазами, с тихой улыбкой и словно ожидая чего-то. Говорить он начал необычно рано, никогда не плакал, живя в непрерывном состоянии тихого веселья. Был слаб, едва ползал и очень радовался, когда видел меня, просился на руки ко мне, любил мять уши мои маленькими мягкими пальцами, от которых почему-то пахло фиалкой. Он умер неожиданно, не хворая; ещё утром был тихо весел, как всегда, а вечером, во время благовеста ко всенощной, уже лежал на столе. Это случилось вскоре после рождения второго ребёнка, Николая.
Мать сделала, что обещала; в школе я снова устроился хорошо, но меня опять перебросило к деду.
Однажды, во время вечернего чая, войдя со двора в кухню, я услыхал надорванный крик матери:
— Евгений, я тебя прошу, прошу…
— Глу-по-сти! — сказал вотчим.
— Но ведь я знаю — ты к ней идёшь!
— Н-ну?
Несколько секунд оба молчали, мать закашлялась, говоря:
— Какая ты злая дрянь…
Я слышал, как он ударил её, бросился в комнату и увидал, что мать, упав на колени, опёрлась спиною и локтями о стул, выгнув грудь, закинув голову, хрипя и страшно блестя глазами, а он, чисто одетый, в новом мундире, бьёт её в грудь длинной своей ногою. Я схватил со стола нож с костяной ручкой в серебре, — им резали хлеб, это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца, — схватил и со всею силою ударил вотчима в бок.
По счастью, мать успела оттолкнуть Максимова, нож проехал по боку, широко распоров мундир и только оцарапав кожу. Вотчим, охнув, бросился вон из комнаты, держась за бок, а мать схватила меня, приподняла и с рёвом бросила на пол. Меня отнял вотчим, вернувшись со двора.
Поздно вечером, когда он всё-таки ушёл из дома, мать пришла ко мне за печку, осторожно обнимала, целовала меня и плакала:
— Прости, я виновата! Ах, милый, как ты мог? Ножом?
Я совершенно искренне и вполне понимая, что говорю, сказал ей, что зарежу вотчима и сам тоже зарежусь. Я думаю, что сделал бы это, во всяком случае попробовал бы. Даже сейчас я вижу эту подлую, длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьёт носком в грудь женщины.
Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновлённой уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать её из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.
И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек всё-таки настолько ещё здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.
Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растёт доброе — человеческое, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.