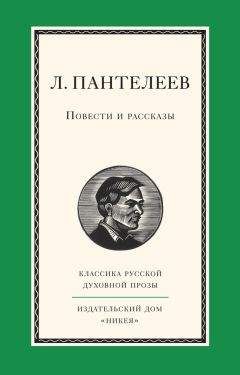Однажды вечером, когда мы сидели с Мережановым в саду – он в гамаке, а я возле него на пенечке, – я как бы невзначай, между делом, задал ему вопрос:
– Скажите, полковник, я давно хотел спросить: откуда у вас эта царапина на щеке?
– Где? Какая? – спросил он, потрогав щеку, и вдруг нащупал рубец, понял, о чем я спрашиваю, помрачнел и как-то слишком поспешно и даже сердито, не глядя на меня, пробормотал:
– Пустяки… Никакого отношения к вашей теме не имеет. Дело далекого прошлого…
И, опершись на палку, он выбрался из гамака и сказал:
– Идемте спать. Уже поздно.
Больше я не решался его расспрашивать. Бывает же у всякого такое, о чем неприятно и не хочется говорить. «Ничего не поделаешь», – решил я. Тем более что через несколько дней я должен был уезжать. И ведь надо же было так случиться, что именно в этот день, буквально за две минуты до отъезда, мне посчастливилось узнать тайну этого мережановского шрама.
* * *
Вместе со мной уезжали из госпиталя два молодых офицера, фронтовики Брем и Костомаров. Еще с вечера мы попрощались с товарищами и врачами, а утром чуть свет поднялись, уложили вещи и вышли на шоссе, поджидая машину, которая должна была доставить нас на пароходную пристань. Накинув на плечи серую больничную курточку, вышел нас проводить и полковник Мережанов.
Солнца еще не было видно, еще лежала роса на траве, но вершины деревьев уже розовели и обещали хороший, ясный и спокойный августовский день.
Машина долго не шла. Мы сложили наши вещи у дороги и сами расположились тут же маленьким лагерем. Мережанов, по обыкновению, молчал; он лежал в стороне, покусывая какой-то цветок или травинку; я тоже молчал, зато молодые попутчики мои были возбуждены, много смеялись и говорили громко и наперебой.
За дорогой, в небольшой рощице, позвякивая колокольчиками, бродило колхозное стадо. Мальчик-пастух, которого я и раньше встречал в окрестностях госпиталя, то и дело высовывал из-за кустов свою белобрысую голову и поглядывал в нашу сторону. Видно было, что ему хочется подойти к нам и заговорить, да не хватает храбрости. Но все-таки он подбирался все ближе и ближе, наконец вышел на дорогу, постоял, посмотрел, сделал еще два-три шага, неловко поздоровался и, не дожидаясь приглашения, сел у края дороги, подогнув под себя босые ноги и положив рядом свой длинный пастушеский кнут. Минуту он сидел молча, разглядывая ордена и медали моих спутников и не очень внимательно прислушиваясь к их разговорам, потом вдруг тяжело вздохнул, покраснел и сказал:
– Я извиняюсь, товарищи военные… Можно вопросик задать?
– Какой вопросик? Можно, – ответили ему.
– В общем… я вот чего хотел, – проговорил он, волнуясь, шмыгая носом и еще более краснея. – Я уже давно думал, с кем бы мне посоветоваться… Не скажете ли вы мне, товарищи, как бы мне… ну, одним словом, – подвиг совершить?
Трудно было удержаться от смеха. Все мы громко и от души расхохотались. А мальчик еще больше смутился, до того, что слезы у него на глазах показались, и сказал:
– Да нет, вы не думайте, я ведь это серьезно.
– А тебе что – так уж обязательно хочется совершить подвиг?
– Ага, – кивнул он. – Обязательно.
– Ну, так за чем же дело стало?
– А вот за тем и стало, что никакой возможности нет в моем положении подвиг совершить. Сами подумайте: где ж его тут у нас совершишь? Фронт от нас далеко: километров, я думаю, тыщи две. Полюсов – тоже нет. Хоть бы граница какая-нибудь была – и той нету.
– Глупости, мой дорогой, – сказал лейтенант Брем. – Чтобы совершить подвиг, вовсе не обязательно ездить на фронт или открывать полюсы. В любом деле можно проявить и отвагу, и мужество и принести пользу родине.
– Да, это конечно, – рассеянно кивнул мальчик, – это я читал…
Слова лейтенанта его нисколько не утешили. Обо всем этом он уже слыхал небось много раз и от учительницы, и от матери и в книжках читал… И все это были для него пустые слова. А ему, наверно, и в самом деле до смерти хотелось совершить какой-нибудь громкий и небывалый подвиг.
– Ну что ж, – сказал он, подбирая свой кнут и поднимаясь. – Ладно… Пойду… Простите, коли так, что побеспокоил…
Он постоял, помолчал, почесал в затылке и уже другим голосом, более весело и развязно, сказал:
– Может, тогда хоть папиросочкой угостите? А? Кто-то из нас, засмеявшись, дал ему папиросу.
И прикурить тоже дал. И при этом, конечно, как это всегда бывает, не удержался, чтобы не сказать:
– Маленький такой, а куришь! Ай-яй-яй!..
– Эвона! – сказал мальчик басом, выпуская из ноздрей дым и морщась от крепкого табаку. – Я уж, вы знаете, четвертый год курю.
– Ну и дурак! Нашел чем хвастать. Вредно ведь.
– Ну да! – усмехнулся он. – Это только так говорят, что вредно. А сами небось все курите. Военные вообще все курят.
– Да? Ты думаешь? А вот я, представь себе, не курю.
Это сказал Мережанов. Он действительно не курил и даже табачного дыма не выносил.
Мальчик мельком, небрежно посмотрел на его серую курточку и сказал:
– Ну так что ж. Ведь вы же зато не военный… Опять мы расхохотались. Пришлось объяснить мальчику, кто такой Мережанов. Но оказалось, что он лучше нас знает, кто такой Мережанов.
– Нет, верно? – воскликнул он, и заблестевшие глаза его так и впились в полковника. – Это вы?!
– Я, – с улыбкой отвечал Мережанов.
– Это вы прошлый год на бочках через Днепр переплыли? Помните?
– Ну как же, помню немножко, – сказал Мережанов.
– А под Житомиром это вы два батальона немецкой пехоты окружили?
– Э, брат, да ты, я вижу, какой-то вроде колдуна. Все-то ты знаешь. Ничего от тебя не скроешь. Ну тебя! – махнул рукой полковник.
Мальчик опять присел на корточки и во все глаза смотрел на знаменитого человека, о котором он небось и в газетах читал, и по радио слушал.
– А почему же вы не курите, товарищ Мережанов? – спросил он.
– Почему не курю? Не хочу, потому и не курю.
– И раньше никогда не курили?
Полковник не сразу ответил. Мне показалось, что лицо его помрачнело. Внезапно он сел, как будто собираясь рассказывать что-то, посмотрел на мальчика и спросил:
– Тебе сколько лет?
– Одиннадцать.
– Ну да, правильно, – сказал Мережанов. – И я тоже начал дымить приблизительно в этом же возрасте. И дымил, представь себе, как паровоз, двадцать три года подряд.
– А потом?
– А потом взял и бросил.
– Доктор, небось, велел?
– Нет, доктора тут вовсе ни при чем. Конечно, курение приносит вред и легким, и печени, и селезенке. Все это истинная правда. Но если бы дело было только в одной какой-нибудь там печенке – может быть, и не стоило бы бросать курить. А я убежден, что военному человеку вообще курить не следует. Особенно летчику, разведчику, пограничнику…
Мережанов помолчал, посмотрел на маленького пастушонка, который неловко пускал из ноздрей дым, и сказал:
– Ладно. Так и быть. Слушай. Расскажу тебе, чего со мной табак наделал. И вам, товарищи офицеры, тоже полезно будет послушать.
* * *
В тридцать шестом году служил я в пограничных войсках. Был я тогда лейтенант и состоял в должности заместителя начальника погранзаставы. На какой границе и где – это неважно. Только скажу вам, что места эти отчаянно глухие. Лес да болото, и ничего больше. В лесах этих водилось очень много дичи, еще больше комаров, а зато людей там было очень немного. И люди эти были по преимуществу староверы, или, как их называли когда-то, раскольники. Народ, между нами говоря, весьма положительный, трудолюбивый, непьющий и некурящий. Ну, насчет выпивки не поручусь: может, и выпивают слегка. А вот что касается курения – это нет. Курение у них почитается за высший грех. Табак они даже не табаком, а «зельем» именуют. А «зелье» по-старославянски означает «яд». Жили они, эти староверы, в то время как-то на отшибе, на хуторах, с остальным населением не якшались, молились в своих молельнях, ели и пили из своей посуды. Ну, да ведь это, как говорится, дело их совести. Были, конечно, среди них и кулаки и другие враждебные элементы, но тех давно уже попросили об выходе… А в остальном, я говорю, народ был подходящий, трудовой, и жили мы с ними, в общем, в мире и согласии.
И только один человек на всем нашем участке был у нас на подозрении. Это была одна женщина, по фамилии Бобылева. У нее двоюродный брат, некто Филонов, раскулаченный, в тридцать первом году бежал за границу. Там его очень быстро завербовала немецкая военная разведка, и за три года он несколько раз переходил нашу государственную границу. Это был очень ловкий и очень опасный враг. В тысяча девятьсот тридцать пятом году он среди бела дня застрелил из обреза учительницу Скворцову. Наверно, вы помните этот случай. Не помните? Ну ладно, я напомню. Учительница эта была коммунистка и депутат Совета. У Филонова с нею были какие-то старые счеты: она его когда-то раскулачивала и писала о нем в областную газету. Так вот, этот Филонов, я говорю, среди бела дня пришел в деревню; в школе в это время шли занятия, и учительница что-то писала ребятам на доске. Он распахнул окно, выпустил в упор всю обойму – и поминай как звали.