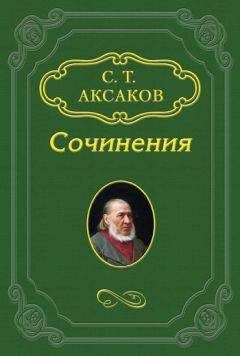Плавильщиков Петр Алексеевич (1760–1812) – выдающийся актер и драматург.
Я очень любил молоко и так много клал сливок в чай, что Григорий Иваныч называл его молочным питьем, а меня иногда поеным теленочком, что я считал за большую милость.
Давали оперу «Колбасники». – Имеется в виду опера «Маркиз крестьянин, или Колбасник», перев. с итал. В. А. Левшина (СПБ. 1795).
«Ошибки, или Утро вечера мудренее» – комедия И. М. Муравьева-Апостола (СПБ. 1794).
«Нина, или От любви сумасшедшая» – опера французского композитора Далейрака (1753–1809), текст Марсолье.
«Граф Вальтрон» – драма Августа Коцебу (1761–1819), перев. с нем. (М. 1803).
Румовский Степан Яковлевич (1734–1812) – видный русский астроном, с 1800 г. – вице-президент Академии наук.
Герман Мартин Готфрид (1755–1822) – доктор философии Геттингенского университета, впоследствии – профессор греческого и латинского языков в Казанском университете.
Цеплин Петр Андреевич (1772–1832) – доктор философии Геттингенского университета, впоследствии – профессор всемирной истории, статистики и географии в Казанском университете.
Фукс Карл Федорович (1776–1846) – профессор естественной истории и ботаники в Казанском университете, одно время был его ректором.
Эвест Федор Леонтьевич (1774–1809) – воспитанник Московского университета, доктор медицины, непродолжительное время служил адъюнктом в Казанском университете.
Бюнеман Генрих Людвиг (1752–1808) – профессор естественного, политического и народного права в Казанском университете, лекции читал на французском и латинском языках; был крайне непопулярен среди студентов.
…назначал камерных студентов… – т. е. тех, которые должны были осуществлять дисциплинарный надзор за младшими студентами в своих камерах (комнатах).
Какой-то проказник написал крупными буквами углем на главном театральном подъезде:
«Пиеса Ермака
Не стоит пятака».
Эта глупая острота, говорят, сильно оскорбила Плавильщикова.
«Бот, или английский купец» – комедия, перев. П. Долгорукого (М. 1804)
«Дмитрий Самозванец» – трагедия А. П. Сумарокова (СПБ. 1771)
«Досажаев». – Имеется в виду комедия Шеридана «Школа злословия» в переводе И. М. Муравьева-Апостола (СПБ. 1794), главный герой в этом переводе назван Досажаевым
«Магомет» – трагедия Вольтера, перев. П. Потемкина (СПБ. 1798)
«Отец семейства» – драма Дидро, перев. Н. Сандунова (М. 1794)
«Рослав» (СПБ. 1784) и «Титово милосердие» (СПБ. 1790) – трагедии Я. Б. Княжнина
«Сын любви» – драма Коцебу, перев. с нем. (М. 1795).
Несмотря на общее и мое собственное увлечение, я заметил, что Плавильщиков в Эдипе иногда сбивается с тону своей роли и часто вместо дряхлого старика играет молодого и сильного человека, что в некоторых местах оглушительный крик, кроме его неестественности, лишает силы, мешает действию речей изнеможенного старца. Живость движений при отыскивании дочери показалась мне и многим даже смешною.
Веревкин Михаил Иванович (1732–1795) – известный в XVIII в. драматург, первый директор Казанской гимназии.
«Ненависть к людям и раскаяние» – комедия Коцебу, перев. И. Репьева (СПБ. 1792) и А. Малиновского (М. 1796).
«Эйлалия Мейнау, или Следствие примирения» – трагедия, «служащая продолжением к комедии „Ненависть к людям и раскаяние“», соч. Фридриха Циглера, перев. с нем. А. Ф. Малиновского (М. 1796).
В одном из параграфов устава было сказано: «Директор назначает роли, и все актеры должны беспрекословно повиноваться его назначению».
Вообще Дмитриев был существо загадочное; он занимался всеми предметами отлично, но ни с кем, кроме Чеснова, не говорил ни слова и всех дичился, а потому никто не знал его; с Чесновым же он был неразлучен, беспрестанно с ним хохотал, щипался, щекотался, толкался и дрался, как десятилетний школьник; часто получал за это выговоры и, как скоро переставал играть с Чесновым, делался угрюм и мрачен.
Рампетка – сачок из флера или дымки для ловли бабочек.
Лафонтен Август (1758–1831) – немецкий романист-сентименталист.
Это слова из романа «Природа и любовь» Августа Лафонтена.
«Бедность и благородство души» – комедия Коцебу, перев. с нем. (М. 1798).
Грузинов был наемный актер на театре г-на Есипова; он с большим успехом занимал амплуа благородных отцов.
Видок того времени. – Видок Франсуа Эжен (1775–1857) – французский уголовный сыщик. Имя его стало нарицательным для обозначения ловкого сыщика, а также мошенника.
Рановременный выход из университета и намерение определить меня на службу было следствием советов Григорья Иваныча, который даже обещал доставить мне место в Комиссии составления законов, что после и сделал.
Каменский Иван Петрович (1773–1819) – профессор Казанского университета по кафедре анатомии, физиологии и судебной «врачебной науки».
Городчанинов Григорий Николаевич (1772–1852) – профессор русской словесности в Казанском университете, сочинял бесталанные стихи и комедии, был посмешищем в глазах студентов.
…похожий на известного профессора Г-го и К-ва. – Вероятно, намек на профессора русской словесности П. Е. Георгиевского (1792–1852) и профессора истории И. К. Кайданова (1782–1843), слывших бесталанными педантами и староверами.
Я помню одну драматическую святочную игру, с особенною песнью и пляскою, которая, как я слышу теперь, уже вышла из памяти народной в той губернии, где я видал ее: посередине избы, на скамье или чурбане, сидит старик (разумеется, кто-нибудь переряженный), молодая его жена в кокошнике и фате, ходя вокруг и приплясывая, поет жалобу на дряхлость мужа, хор ей подтягивает. Пропев куплет, кажется из восьми стихов, из которых я помню два начальные во всех куплетах:
Ох ты горе мое, гореванье,
Ты тяжелое мое, воздыханье… —
жена подходит к мужу и посылает его пахать яровую пашню. Старик кашляет, стонет и дребезжащим голосом отвечает: «Моченьки нет». Зрители хохочут. Молодая женщина опять поет вместе с хором новый куплет, ходя и приплясывая кругом старика. Таким образом перебираются все полевые работы, и на все приглашения сеять, пахать, косить, жать и проч. старик отвечает словами: «Моченьки нет», разнообразя отказ прибаутками и оханьем. Наконец, жена поет последний куплет, в котором говорится, что все добрые люди убрались с полей и принялись варить пиво; потом подходит к мужу и зовет его к соседу «бражки испить». Старик проворно вскакивает, бодро отвечает: «Пойдем, матушка, пойдем» – и бежит стариковской рысью, утаскивая за руку молодую жену. Громкий веселый хохот зрителей заключает эту игру.
Через несколько лет я встретился с Гурьем Ивличем Ласточкиным (Через несколько лет я встретился с Гурьем Ивличем Ласточкиным… – В архивном фонде ИРЛИ хранится рукопись эпизода с Ласточкиным, написанная неизвестной рукой и исправленная автором. В рукописи есть некоторые незначительные разночтения с печатным текстом. Но одно из них любопытно. В печатном тексте сказано, что начальство уговаривало Ласточкина «поступить в духовное звание, к которому он не чувствовал влечения». В рукописи же читаем, что к духовному званию Ласточкин «питает непреодолимое отвращение!» (ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, д. N 12). Фраза претерпела изменения, вероятно, по цензурным соображениям.) самым оригинальным образом. Предварительно надобно сказать, что в последнее время, как я уже и говорил, он очень полюбил меня и, несмотря на то, что мне был двенадцатый, а ему двадцать второй год, дружески поверял мне все свои обстоятельства и между прочим то, что начальство уговаривает его поступить в духовное звание, к которому он не чувствовал влечения. Не знаю, почему мне засело в голову, что Гурий Ивлич будет непременно священником, и я уверял его в этом. Он спорил, даже сердился и, чтоб убедить меня в противном, взял однажды лист бумаги и написал на нем: «Скорее река Казанка потечет вверх, чем Гурий Ласточкин пойдет в духовное звание». Этот лист он отдал мне спрятать как обязательство, что он сохранит свою свободу; явное доказательство, как он сам был еще молод. Месяца через два мы расстались. Прошло три года или около четырех; я ни разу не слыхал о Гурье Ивличе и совершенно забыл об его существовании. В одно скверное осеннее утро получил я записку от моей родной тетки Н. Н. Зубовой, которую очень горячо любил; она жила тогда в доме В-х, и я часто видался с нею. «Милый мой Серж (писала она), сегодня, в шестом часу после обеда, приезжай к нам в мундире и со шпагой. Сегодня у нас свадьба; ты шафер у Лизы, будешь ее обувать и провожать в церковь». Лиза была воспитанница В-х (Лиза была воспитанница В-х… – В той же рукописи (см. предыдущее примеч.) фамилия обозначена полностью: «Вишняковых».), бедная, молодая и прекрасная собою девушка. Я приехал, немножко опоздал, меня побранили и сейчас провели к невесте; я обул ее ножки в шелковые чулки и башмаки. Невеста была еще не совсем одета, но голова находилась уже в полном свадебном убранстве; я помню, что был поражен ее красотой. Едва я успел перемолвить несколько слов с любимой моей тетушкой у ней в комнате, как хозяйка В-ва позвала меня к себе и попросила, чтоб я поскорее поехал в ее карете к жениху и сказал ему, что невеста одета и чтоб он ехал сейчас в церковь и оттуда прислал шафера сказать, что он ожидает невесту. Второпях я не успел спросить, кто такой жених, и ту же минуту поскакал к нему. Со мной был человек В-х, знавший жениха и его квартиру; он привез меня в какой-то большой каменный дом, в котором много было народа, провел через несколько комнат и, отворив дверь, сказал: «Вон жених, перед зеркалом одевается…», и я увидел спину плотного мужчины, в коротких штанах, шелковых чулках и башмаках, которому торопливо и усердно повязывали белое толстое жабо. Я подошел, жених обернулся, – это был Гурий Ивлич Ласточкин, очень пополневший. Мы оба вскрикнули от изумления. «Ах, милый мой Аксаков, – сказал он, обняв меня, – как я рад, что вас вижу, но, извините меня, в эту минуту я не могу…» Я перебил его слова, сказав, что я шафер его невесты и приехал поторопить жениха. Ласточкин, продолжая поспешно одеваться, продолжал говорить со мной. «Как, я думаю, вы удивлены?» – сказал он. «Да, – отвечал я, – я не знал, кто жених; но я очень рад, что вы женитесь на прекрасной и предоброй девушке». – «Ах, так вы еще ничего не знаете! – воскликнул Ласточкин, взял меня за руку, отвел в сторону и тихо сказал мне: – Вы, верно, помните мое письменное обещание не поступать в духовное звание; ну так знайте же: завтра я священник, а послезавтра протопоп в соборе Петра и Павла…» – и слезы показались у него на глазах. Какие обстоятельства изменили или заставили пожертвовать Гурья Ивлича своим прежним убеждением – я не знаю; но, видно, жаль было ему своей свободы. С тех пор мы не видались. В продолжение пятидесяти лет я постоянно слышал, что Гурий Ивлич Ласточкин был всеми любим за свои душевные качества и уважаем за свою ученость; кажется, он был даже ректором в Духовной академии, не очень давно учрежденной в Казани.