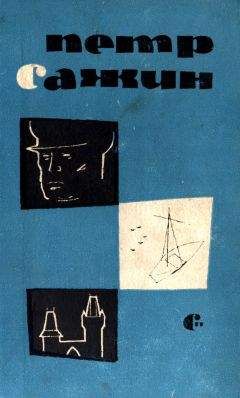«Затишье, – думал Лужин в этот день. – Затишье, но скрытые препарации. Оно желает меня взять врасплох. Внимание, внимание. Концентрироваться и наблюдать».
Все мысли его за последнее время были шахматного порядка, но он еще держался, – о прерванной партии с Турати запрещал себе думать, заветных номеров газет не раскрывал – и все-таки мог мыслить только шахматными образами, и мысли его работали так, словно он сидит за доской. Иногда, во сне, он клялся доктору с агатовыми глазами, что в шахматы не играет, – вот только однажды расставил фигуры на карманной доске да просмотрел две-три партии, приведенные в газете, – просто так, от нечего делать. Да и эти падения случались не по его вине, а являлись серией ходов в общей комбинации, которая искусно повторяла некую загадочную тему. Трудно, очень трудно заранее предвидеть следующее повторение, но еще немного – и все станет ясным, и, быть может, найдется защита…
Но следующий ход подготовлялся очень медленно. Два-три дня продолжалось затишье; Лужин снимался для паспорта, и фотограф брал его за подбородок, поворачивал ему чуть-чуть лицо, просил открыть рот пошире и сверлил ему зуб с напряженным жужжанием. Жужжание прекращалось, дантист искал на стеклянной полочке что-то, и, найдя, ставил штемпель на паспорте, и писал, быстро-быстро двигая пером. «Пожалуйста», – говорил он, подавая бумагу, где были нарисованы зубы в два ряда, и на двух зубах стояли чернилом сделанные крестики. Во всем этом ничего подозрительного не было, и это лукавое затишье продолжалось до четверга. И в четверг Лужин все понял.
Еще накануне ему пришел в голову любопытный прием, которым, пожалуй, можно было обмануть козни таинственного противника. Прием состоял в том, чтобы по своей воле совершить какое-нибудь нелепое, но неожиданное действие, которое бы выпадало из общей планомерности жизни и таким образом путало бы дальнейшее сочетание ходов, задуманных противником. Защита была пробная, защита, так сказать, наудачу, – но Лужин, шалея от ужаса перед неизбежностью следующего повторения, ничего не мог найти лучшего. В четверг днем, сопровождая жену и тещу по магазинам, он вдруг остановился и воскликнул: «Дантист. Я забыл дантиста». – «Какие глупости, Лужин, – сказала жена. – Ведь вчера же он сказал, что все сделано». – «Нажимать, – проговорил Лужин и поднял палец. – Если будет нажимать пломба. Говорилось, что если будет нажимать, чтобы я приехал пунктуально в четыре. Нажимает. Без десяти четыре». – «Вы что-то спутали, – улыбнулась жена. – Но конечно, если болит, поезжайте. А потом возвращайтесь домой, я буду дома к шести». – «Поужинайте у нас», – сказала с мольбой в голосе мать. «Нет, у нас вечером гости, – гости, которых ты не любишь». Лужин махнул тростью в знак прощания и влез в таксомотор, кругло согнув спину. «Маленький маневр», – усмехнулся он и, почувствовав, что ему жарко, расстегнул пальто. После первого же поворота он остановил таксомотор, заплатил и не торопясь пошел домой. И тут ему вдруг показалось, что когда-то он все это уже раз проделал, и он так испугался, что завернул в первый попавшийся магазин, решив новой неожиданностью перехитрить противника. Магазин оказался парикмахерской, да притом дамской. Лужин, озираясь, остановился, и улыбающаяся женщина спросила у него, что ему надо. «Купить…» – сказал Лужин, продолжая озираться. Тут он увидел восковой бюст и указал на него тростью (неожиданный ход, великолепный ход). «Это не для продажи», – сказала женщина. «Двадцать марок», – сказал Лужин и вынул бумажник. «Вы хотите купить эту куклу?» – недоверчиво спросила женщина, и подошел еще кто-то. «Да», – сказал Лужин и стал разглядывать восковое лицо. «Осторожно, – шепнул он вдруг самому себе, – я, кажется, попадаюсь». Взгляд восковой дамы, ее розовые ноздри, – это тоже было когда-то. «Шутка», – сказал Лужин и поспешно вышел из парикмахерской. Ему стало отвратительно неприятно, он прибавил шагу, хотя некуда было спешить. «Домой, домой, – бормотал он, – там хорошенько все скомбинирую». Подходя к дому, он заметил, что у подъезда остановился большой, зеркально-черный автомобиль. Господин в котелке что-то спрашивал у швейцара. Швейцар, увидав Лужина, вдруг протянул палец и крикнул: «Вот он!» Господин обернулся.
…Слегка посмуглевший, отчего белки глаз казались светлее, все такой же нарядный, в пальто с котиковым воротником шалью, в большом белом шелковом кашнэ, Валентинов шагнул к Лужину с обаятельной улыбкой, – озарил Лужина, словно из прожектора, и при свете, которым он обдал его, увидел полное, бледное лужинское лицо, моргающие веки, и в следующий миг это бледное лицо потеряло всякое выражение, и рука, которую Валентинов сжимал в обеих ладонях, была совершенно безвольная. «Дорогой мой, – просиял словами Валентинов, – счастлив тебя увидеть. Мне говорили, что ты в постели, болен, дорогой. Но ведь это какая-то путаница…» И, при ударении на «путаница», Валентинов выпятил красные, мокрые губы и сладко сузил глаза. «Однако нежности отложим на потом, – перебил он себя и со стуком надел котелок. – Едем. Дело исключительной важности, и промедление было бы… губительно», – докончил он, отпахнув дверцу автомобиля; после чего, обняв Лужина за спину, как будто поднял его с земли, и увлек, и усадил, упав с ним рядом на низкое, мягкое сиденье. На стульчике, спереди, сидел боком небольшой, востроносый человечек, с поднятым воротником пальто. Валентинов, как только откинулся и скрестил ноги, стал продолжать разговор с этим человечком, разговор, прерванный на запятой и теперь ускоряющийся по мере того, как расходился автомобиль. Язвительно и чрезвычайно обстоятельно он распекал его, не обращая никакого внимания на Лужина, который сидел, как бережно прислоненная к чему-то статуя, совершенно оцепеневший и слышавший, как бы сквозь тяжелую завесу, смутное, отдаленное рокотание Валентинова. Для востроносого это было не рокотание, а очень хлесткие, обидные слова, – но сила была на стороне Валентинова, и обижаемый только вздыхал да ковырял с несчастным видом сальное пятно на черном своем пальтишке, а иногда, при особенно метком словце, поднимал брови и смотрел на Валентинова, но, не выдержав этого сверкания, сразу жмурился и тихо мотал головой. Распекание продолжалось до самого конца поездки, и когда Валентинов мягко вытолкнул Лужина на панель и захлопнул за собой дверцу, добитый человечек продолжал сидеть внутри, и автомобиль сразу повез его дальше, и, хотя места было теперь много, он остался, уныло сгорбленный, на переднем стульчике. Лужин меж тем уставился неподвижным и бессмысленным взглядом на белую, как яичная скорлупа, дощечку с черной надписью «Веритас», но Валентинов сразу увлек его дальше и опустил в кожаное кресло из породы клубных, которое было еще более цепким и вязким, чем сиденье автомобиля. В этот миг кто-то взволнованным голосом позвал Валентинова, и он, вдвинув в ограниченное поле лужинского зрения открытую коробку сигар, извинился и исчез. Звук его голоса остался дрожать в комнате, и для Лужина, медленно выходившего из оцепенения, он стал постепенно и вкрадчиво превращаться в некий обольстительный образ. При звуке этого голоса, при музыке шахматного соблазна, Лужин вспомнил с восхитительной, влажной печалью, свойственной воспоминаниям любви, тысячу партий, сыгранных им когда-то. Он не знал, какую выбрать, чтобы со слезами насладиться ею, все привлекало и ласкало воображение, и он летал от одной к другой, перебирая на миг раздирающие душу комбинации. Были комбинации чистые и стройные, где мысль всходила к победе по мраморным ступеням; были нежные содрогания в уголке доски, и страстный взрыв, и фанфара ферзя, идущего на жертвенную гибель… Все было прекрасно, все переливы любви, все излучины и таинственные тропы, избранные ею. И эта любовь была гибельна.
Ключ найден. Цель атаки ясна. Неумолимым повторением ходов она приводит опять к той же страсти, разрушающей жизненный сон. Опустошение, ужас, безумие.
«Ах, не надо», – громко сказал Лужин и попробовал встать. Но он был слаб и тучен, и вязкое кресло не отпустило его. Да и что он мог предпринять теперь? Его защита оказалась ошибочной. Эту ошибку предвидел противник, и неумолимый ход, подготавливаемый давно, был теперь сделан. Лужин застонал и откашлялся, растерянно озираясь. Спереди был круглый стол, на нем альбомы, журналы, отдельные листы, фотографии испуганных женщин и хищно прищуренных мужчин. А на одной был бледный человек с безжизненным лицом в больших американских очках, который на руках повис с карниза небоскреба – вот-вот сорвется в пропасть. И опять раздался невыносимо знакомый голос: Валентинов, чтобы не терять времени, заговорил с Лужиным, еще только подходя к двери, и когда дверь открыл, то продолжал начатую фразу: «…крутить новый фильм. Манускрипт сочинен мной. Представь себе, дорогой, молодую девушку, красивую, страстную, в купэ экспресса. На одной из станций входит молодой мужчина. Из хорошей семьи. И вот, ночь в вагоне. Она засыпает и во сне раскинулась. Роскошная молодая девушка. Мужчина, – знаешь, такой, полный соку, – совершенно чистый, неискушенный юнец, начинает буквально терять голову. Он в каком-то трансе набрасывается на нее (…и Валентинов, вскочив, сделал вид, что тяжело дышит и набрасывается…). Он чувствует запах духов, кружевное белье, роскошное молодое тело… Она просыпается, отбрасывает его, кричит (…Валентинов прижал кулак ко рту и закатил глаза…), вбегает кондуктор, пассажиры. Его судят, посылают на каторгу. Старуха мать приходит к молодой девушке умолять, чтобы спасли сына. Драма девушки. Дело в том, что с первого же момента – там, в экспрессе, – она им увлеклась, увлеклась, увлекла-ась, вся дышит страстью, а он, из-за нее, – понимаешь, вот в чем напряжение, – из-за нее отправлен на каторгу». Валентинов передохнул и продолжал более спокойно: «Дальше следует его бегство. Приключения. Он меняет фамилию и становится знаменитым шахматистом, и вот тут-то, мой дорогой, мне нужно твое содействие. У меня явилась блестящая мысль. Я хочу заснять как бы настоящий турнир, чтобы с моим героем играли настоящие, живые шахматисты. Турати уже согласился, Мозер тоже. Необходим еще гроссмейстер Лужин…»