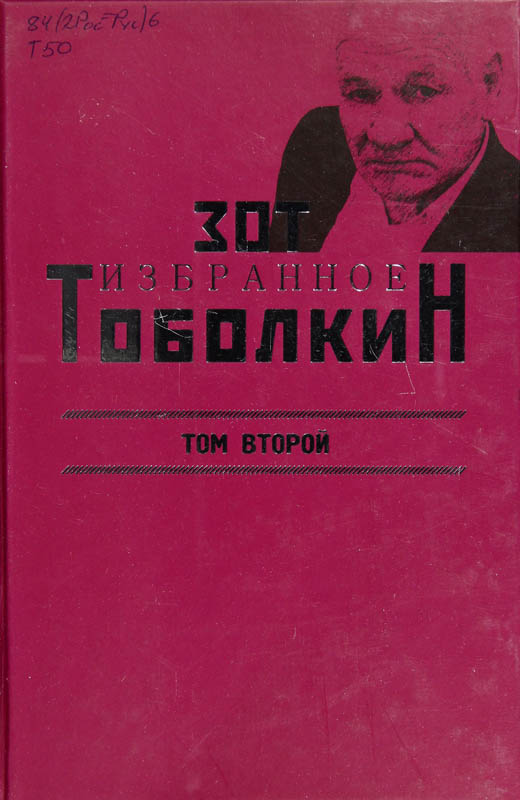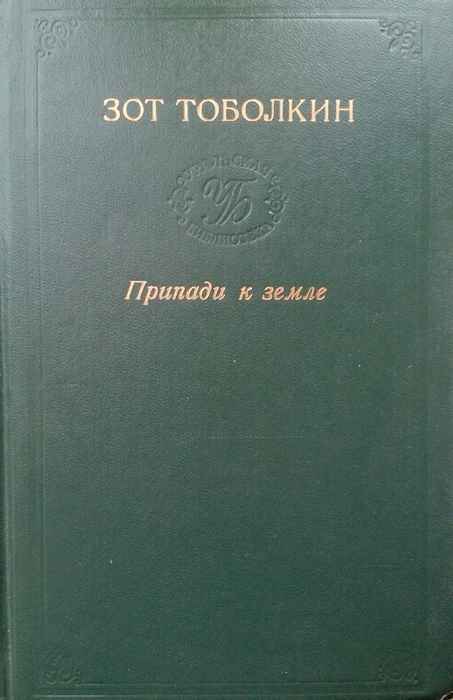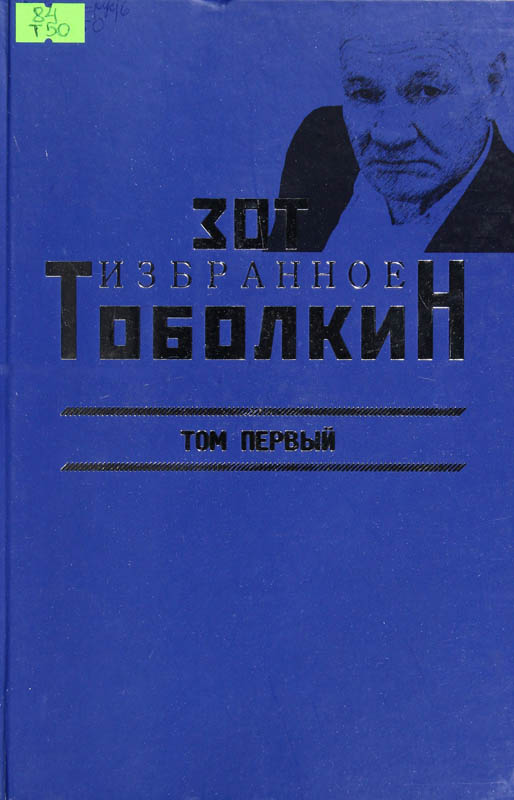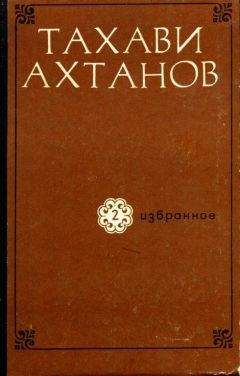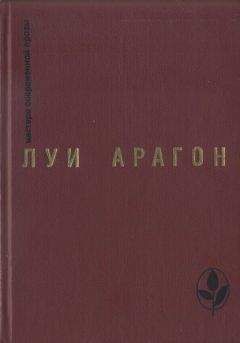Он же, сукин сын, на всё правление пятно посадил!
- Остатнюю совесть вином залил, – вставила Фёкла.
Сазонов выстукивал козонками пальцев по краешку стола какой-то марш. Веки медленно шевелились вверх-вниз, вверх-вниз.
- Твоё мнение какое, Гордей? – спросил Пермин.
- Нет у меня мнения. Я не правленец...
- Тебя по-людски спрашивают, дак мирошкой не прикидывайся!
- Довольно! – поднялся Сазонов. В нужные минуты голос его твердел. Пройдясь из угла в угол, остановился против Науменко.
- Как же это вы, Григорий Иванович?
- Тяжко! – Науменко зажал в ладонях опухшее, страшное лицо. – Тяжко!
- У каждого из нас свои заботы, свои печали... – тихо говорил Сазонов. – Что ж теперь – всем запивать? Коммунисты мы... Нельзя нам раскисать! Никак нельзя!
- Судите! Один конец! – выдавил Науменко. Если бы он способен был примечать, то увидел бы на холодном, строгом лице Сазонова неожиданное сочувствие.
- Вон сколь горя Афанаске доставил! Как над дитёнком скорбит! – указал за окно Евтропий.
Правленцы подошли к окну. Афанасея что-то наговаривала коню. Он печально моргал затёкшими кровью глазами, осев на передок. Его выпрягли поддерживая с боков, повели к конюшне.
- Гляди и казнись, Григорий! – сурово сказал Пермин. В эту минут он ощутил вдруг, что слова его стали весомее и что говорит он не своё личное, как делал до сих пор, а нечто более значительное, и ему стало и страшно, и хорошо. Пожалев Науменко, он решил в уме, что жалость тут неуместна и что, как сказал Сазонов, председателю надо помочь. Он ещё не знал, как и чем поможет, но верил, что сумеет это сделать. – Теперь ты знаешь себе цену... Гляди и казнись, – повторил он.
Гирями придавливали взгляды правленцев. Науменко навис над полом изломанным треугольником спины, лишь чудом держась на краешке табурета.
- Выйдите пока, – давая ему передышку, сказал Сазонов. – Понадобитесь, вызовем.
Постаревший, жалкий, с испитым, серым лицом, Науменко медленно вышел, едва волоча ноги в потускневших хромовых сапогах.
- Не круто? – спросил Евтропий. – Сломаться может...
- Не кисейная барышня...
За дверью загремело.
Науменко изменили силы. Неосторожно ступив, он покатился вниз, стучась головой о ступени.
- Ой, батюшки! – вскрикнула Агнея, пропихиваясь в правление. – Убился!
Около разбившегося в кровь Науменко хлопотали колхозники.
- Снесите наверх! – велел Пермин. – Воды, Агнея!
Правление не состоялось.
Ямин запряг лошадь, чтобы отвезти председателя домой.
- Мне туда путь заказан, – замотал головой Науменко.
«Час от часу не легче», – вздохнул Гордей и повёз его к себе.
Затемно расходились правленцы.
С озера Пустынного, из-за Одины, наскакивал ветер, словно брал разбег, чтобы сдвинуть круглую ковригу луны. Она насмешливо поглядывала вниз на суету сует, желтея тугим зобастым ликом. Изредка падали звёзды.
- Шалит боженька, блох за воротник кладёт, – сказал Евтропий. Ему было с Сазоновым по пути. – А блохи-то золотые... Люди увидят – подберут. Ему и потеха...
- Вы верите в бога? – спросил Сазонов.
- Без штанов бегал – верил. А теперь и без него много путаницы.
- А я и в детстве не верил... Зато мать молитв не жалела... Ну и вымолила себе милость – помереть под забором... За одно это я бы трижды его распнул...
- В кого же теперь верить?
- В человека. Это всего верней...
- Человеки-то разные бывают... Добрые и злые.
- Верх возьмут добрые... Это неизбежно!
- Тяжёлая она, доброта-то! Наверху её не удержишь... Выпустишь – опять зло останется.
- Держать крепче надо.
- Легко сказать...
- Боитесь?
- Не то чтобы боюсь, а сомневаюсь.
- Я и сам не всё на слово принимаю... Но путь наш верный, Евтропий Маркович! Да и другого ещё никто не указал.
«Проговорился! – удивился про себя Евтропий. – Устал, видно». У него защемило внутри от жалости к этому светлому, непристроенному человеку. Уживчивый, лёгкий на слово, но скрытный, он вдруг приоткрыл краешек своей души, в которой затаилась бесслёзная, сухая до хруста на зубах грусть. Душа его, как и узкий прищур глаз, распахивалась редко...
- Мудришь ты шибко, Варлам Семёнович! Живи, как все!
- А все мудрят... Никто просто не живёт. Одни только подлецы всё упрощают...
- Ну, не знаю.
Снег холодно и резко скрипел.
Мороз рвал за уши, щипал за щёки.
Луна медленно взбиралась наверх.