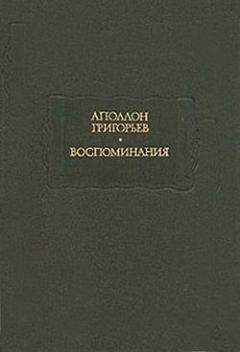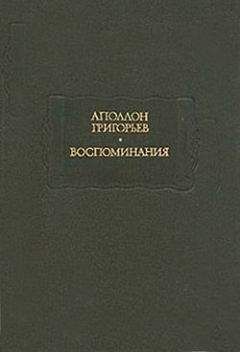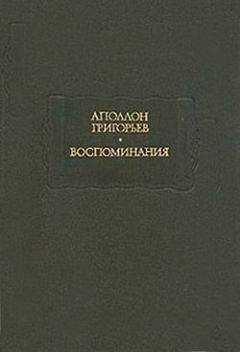«Да кой черт с вами делается? – сказал мне Хмельницкий. – Вы с ума сошли…».
Отец уехал к сенатору[55]… Я сидел с матерью и говорил преспокойно о будущем, о моем желании остаться всегда при них… «А там, бог даст, и женишься, возьмешь богатую невесту. Что ж Менщиков-то? Разве лучше тебя?».
А наверху Фет и Хмельницкий рассматривали мои вещи, думая, как бы повыгоднее заложить их.
Приехал отец – и начался обыкновенный рассказ об сенаторе; я вторил его словам, по обыкновению, спокойно, точно так же, как всегда, полулежа на креслах.
Пробило 10. – Казенный час.
«Полуночник-то, чай, просидит у вас до полночи?» – сказала мать, которая особенно как-то не расположена к Хмельницкому.
«И что сидит? – отвечал я, – хоть бы дело говорил-то… Покойной ночи!».
– Христос с тобой!
Я взошел наверх – и мы трое говорили об отъезде. Кажется, все уладим. Главное дело – отпуск.
Назимову я сказал, что отец отпускает меня в Петербург и дает 1000 рублей на дорогу… Отпуск написали – и я тотчас же повез его к ректору.[56] Я ждал его долго, до 4 часов. Когда он приехал, я сперва подал ему бумаги к подписанию, потом положил мой отпуск.
Он, казалось, не удивился нисколько! – Что ж так ненадолго? только на 14 дней?
– Оттуда буду просить отсрочки, ваше пр‹евосходительст›во.
Он подписал.
– Теперь, в. п., позвольте поблагодарить вас за вашу благородную снисходительность, за ваше внимание ко мне.
– Что это значит?
Я объяснил ему настоящую цель моего отпуска, взявши с него честное слово никому не говорить об этом.
Он уговаривал меня остаться, уверял, что все перемелется.
Нынче пятница. В субботу Кр‹ылов› не бывает в университете, следственно, мои не узнают ничего.
Крыл‹ов› подошел нынче к моему столу и подал руку с каким-то смущением. Я отвечал ему самым дружеским и искренним пожатием. «Экая горячка какая!» – сказал он мне тихо… «С нами, Н. И., сбывается, кажется, всегда, что amantium irae amoris renovatio[57]»… – «Что ж вечерком-то именно?» – «Ваш гость».
Прежде зайду к тем, в последний раз!.. Но избави меня боже от поползновения даже на какую бы то ни было драматическую сцену.
Там застал я К‹а›в‹ели›на и потому невольно был молчалив и скучен. «У! какой злой сегодня, – говорила мне Софья Григорьевна, – какой злой, какой старый!». И в самом деле – я и К‹а›в‹ели›н были такими противуположностями в эту минуту. Он – живой, умный, румяный, полный назначения и надежд, сидел прямо против Антонины Федоровны и говорил без устали. Я сидел у окна подле матери – и курил сигару, изредка вмешиваясь в разговор; моя бледная, исковерканная физиономия казалась еще бледнее. К чему-то Антонина обратилась ко мне с вопросом: «А помните, как мы гуляли в Покр‹овско›м?»… – Как же-с! – отвечал я так равнодушно, что за это равнодушие готов был уважать себя.
Мы поднялись вместе.
– Au revoir, medames, – сказал я им. – Adieu, m-lle,[58] – обратился я к ней.
И как подумаешь, что, может быть, навек.
На дороге к Кр‹ылов›у мы успели переговорить с К‹а›в‹елины›м. Нет! К черту письмо и к черту всякую драму.
Завтра – день моего отъезда.
Зах‹аро›в, узнавши о моем отпуске, сказал мне: «А ведь я знаю, зачем вы едете? Чтоб поправить отчет. А? не так ли?»… И сам рад своей догадливости, он с видом хитрости смотрел на меня.
– Поедем нынче к Петру Кириловичу![59] – сказал мне; отец.
– Сделайте одолжение!
Мы были там. Я был в этот вечер до nec plus ultra[60] любезен. Мы долго сидели с Анной Петровной[61] одни и говорили о Ж. Занд, но как ни наводил я разговор на мою любимую тему, она не подавалась… Наконец я просто, хотя другими словами, сказал ей, что она – пуста, и пуста потому, что аристократка. «Mais que voulez vous done que je sois? Je chasse loin de moi toutes ces questions[62]»… С этого пункта я начал проповедовать. Она слушала меня задумчиво, не подымая глаз… «Si on nous entendrait – on nous maudirait», – прошептала она. – «Par bonheur on ne nous entendra pas faute de comprendre[63]». – Потом она пела мне чудные звуки Монтекки и Капулетти.
Утро – со мной лихорадка. В пять часов меня не будет в Москве.
Написал, письмо к Анне Петровне, с которым послал «Оберманна».[64]
Я доволен собою.
Чуть не изменил себе, прощаясь с стариками; – но все кончено – передо мною мелькают лес да небо… Теперь 9 часов. Домашняя драма уже разыгрывается.
Fatum опутало меня сетями – Fatum разрубило их.
Vorwärts![65]
Впервые: Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917; с. 01 – 016 с ошибками и пропусками, впервые научно воспроизведено: Григорьев Аполлон. Воспоминания. Ред. и коммент. Иванова-Разумника. М.-Л., «Academia», 1930, с. 165–198. Автограф хранится в ИРЛИ, 3899. XVI, б. 57; это беловая рукопись почти без поправок, на 11 листах большого формата (с заполнением оборотов листов). Сразу же после заголовка следует цифра «XX», т. е., первые 19 глав сознательно не переписаны в беловик. Единство и беловая ровность почерка исключают возможность предположения, что перед нами дневник; если таковой и велся, то в каком-то черновом варианте. Утраченные 19 глав могут быть приблизительно восстановлены по рассказу «Мое знакомство с Виталиным», содержание которого соответствует тем же событиям и, видимо, тому же времени (1843–1844 гг.).
Г. дважды ошибочно повторил число 40 (XL) и, начиная с главы 41, до конца нумеровал главы неверно. Мы восстанавливаем истинную нумерацию.
На полях л. 3 имеется любопытная запись рукой Г.: «[Его] Ваше Императорское Величество Всемилостивейший Государь Всеавгустейший монарх». Проба пера для какого-то прошения на имя царя?
Знаменский переулок – московские Малый Знаменский пер. (ныне ул. Маркса и Энгельса) или Большой Знаменский пер. (ныне ул. Грицевец); Г., очевидно, поехал в одно из «злачных» заведений в переулке.
Нина – Антонина Федоровна Корш.
самодовольства (франц.).
Вы сегодня очень печальны (франц.).
Лидия – Лидия Федоровна Корш.
Как всегда (франц.).
Щепин – возможно, Николай Михайлович Щепкин (1820–1886), сын известного артиста.
Климперкастен – дешевый, плохой рояль (от нем. Klimperkasten – бренчащий ящик).
Матушка – мать Антонины и Лидии, Софья Григорьевна Корш.
Никита – Никита Иванович Крылов, муж Любови Федоровны, урожденной Корш, сестры Антонины и Лидии.
Нет! не такие триумфы нужны вам… Оставьте их мадемуазели Асланович… (франц.).
Дядя – брат отца, Николай Иванович Григорьев.
Судьба, фатум (лат.).
Учение об иронии было развито немецкими романтиками (бр. Шлегели, Гофман), творчество которых Г. Хорошо знал. Но трагический акцент и «стремление бесцельное» (т. е. не способное дать какого-либо практического результата) «во имя человеческого благородства и величия» сближает эти мысли Г. с идеями датского философа С. Киркегора, его современника, творчество которого тогда за пределами Дании совсем не было известно.
Религия Одина – Г. истолковывает языческую мифологию древних германцев в романтическом духе, явно модернизируя ее содержание и идеалы.
Образчик цеховой деликатности. – Г. иронизирует над «цеховой» (как бы средневековой) замкнутостью круга университетских профессоров.
Н. И. – Н. И. Крылов.
из милости (франц.).
Круг цеховых. – Круг университетских преподавателей.
Koat-ven – Сю. – Имеется в виду 4-томный роман Э. Сю «La vigie de Koat-Ven» (1833); по-русски в статьях его называли «Коатвенская башня»; переведен не был.
это прилично, по крайней мере (франц.).
– Вы сегодня дева свободы? – Как это? – На вас ведь три цвета (франц.).
…три цвета. – Намек на знамя Великой французской революции (трехцветное: белая, красная, синяя полосы).
«Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве» («Мертвые души», т. I, гл. V).