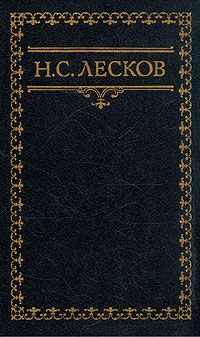– Не знаю.
– Расскажи барину, как генерал докторов бил. Барин тебе тоже на хлеб даст: может быть, в Нарву съездишь, а там какую-нибудь работу найдешь.
И порционный сейчас же начал сразу ровным, тихим голосом всю ту историю, которую я передал уже со слов своей знакомой няни, но только порцион ее излагал в самом сильном конкрете: «Жил возле рынка генерал… имел верного слугу-камердинера. Отлучился в киятер, а верный камердинер к себе приходимую кралю принял чай пить… как вдруг ему резь живота… Взяли его и стали над ним опыт струментой пробовать, все чувствия угасили, но в подщиколке еще пульс бил. Генерал его восхитил – и в баню; потом позвал докторов в гости, а камердинеру велел войти и чай подать… Те и попадали… А генерал двух расстрелял, а третьего в морду набил и сказал: „Ступай, жалуйся!“»
Этим все и кончилось.
Я дал мужику два двугривенных и хотел ему собрать завтра между знакомыми все пятнадцать рублей, которые у него странник украл. Он мои двугривенные кинул себе в рот (карманов у него, как у настоящего праведника, не было). И затем он ушел и более уже в наших местах не показывался. Я уж думал, не повлек ли его рок в Нижний за краткой развязкою?..
А тем временем приезжает с кем-то извозчик из Нарвы и говорит, что к ним ждут генерала Баранова и полк артиллерии.
– Для чего же?
– Да на фабриках, – говорит, – очень живой разговор пошел.
– О чем?
– Все об струменте.
А дальше рассказывает, что у них дело будто уже и разыгралось таким образом: пошел будто у них какой-то доктор на Нарову купаться, разделся и стал при всех глупость делать: спустил на шнурке с мостка в воду трубку и болтает ее и взад и вперед водит. Пополоскает, пополоскает и опять вытянет, поглядит и опять запустит… Люди увидали это, и несколько человек остановились, а потом вскричали ему: «Доктор, мол, доктор! Слышь-ко, оставь, мол, лучше эту… струментацыю-то! Полно тебе ее полоскать!.. Оставь же, мол; а то нехорошо будет!» А он не послушался и еще раз закинул. Ну, уж тут его один по голой плоти хворостиной и дернул. И стали приставать. «Подай инструмент, мы его отнесем узнать: что там насажено». А он первой же хворостины испугался и бежать, и инструмент с собой… Ну, тогда, разумеется, за ним уж и многие рушили, и кои догоняли, те били его; но слава богу, что он резво бежал; а если бы он, на грех, споткнулся либо упал – так насмерть бы убить могли. Доктор успел вспрыгнуть на извозчика и в полицию голый так и вскочил… Тут после и пошли по всем сходным местам и трактирам сходиться все фабричные и их эти тоже приходимые красотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего же полиция могла скрыть такого человека, который не постыдился при всех в воде через инструмент микробу впускать… И теперь беспокойства, и ждут, что с одной стороны выедет губернатор из Ревеля, а с другой вступит граф Баранов – и начнет всем публиковать свои правила.
«Инструмент» и «приходимые красотки» – это прямо отдавало тем самым источником, из которого были почерпнуты первые материалы для легенды, получившей свое развитие у нас на plage. Ветер или вода, значит, занесли «запятую» прежде всего туда, в наше фешенебельное место; но там, на plage, «запятой» «среда не благоприятствовала», и запятая не принялась, или, культивируясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: а вот тут, когда она попала в среду ей вполне благоприятную, она «развила свои разведения».
А что это была именно она, та самая «запятая», которую мы видели и не узнали, а еще сунули ей в зубы хлеб и два двугривенных, то это вдруг сообразили и я и лавочник. И лавочник к тому имел еще и «подтверждение на факте», так как он сам ездил на лошади в Нарву за товаром, и когда назад возвращался, то порционный мужик сам явился ему за городом: он совершенно неожиданно поднялся к нему из мокрой канавки и закричал: «Журавли летят! Журавли! Аллилуйя!» Но только лавочник на этот раз был уже умнее: он теперь знал, что порционный мужик – человек опасный: лавочник поскорее хлестнул лошадь и хлеба ему не кинул, а кнутом ему погрозил да прикрикнул:
– Вон граф Абрамов наступает с публикацыей – он тебя удовольствует!
А на «порцыоне» как раз, кстати, теперь уже и рваных порт совсем не было, так что и легко было его «удовольствовать»… Но сумасшедший дом, однако, мог бы без греха укрыть его от этого «удовольствия».
Вот и весь сказ о запятой. Тут налицо все: какая у нее видимость и умственность, что у нее за характер и какова она в словах и в рассуждении своего влияния на мозг человеческий. Кажется, ничто особенно хитро не задумано и не слажено: что есть, то все взято без всякой пропорции, не на вес, а на глазомер, или, еще проще, – сколько влезло. Во всяком случае, всего менее попало сюда злого намерения и расчета. Этого снадобья тут не более, чем поэзии Фета, которая участвует в составе преступления «запятой» только одним стихом: «Приходи, моя милая крошка». Таким образом, муза поэта, ненавидевшего народные несуразности, изловлена где-то в то время, как она гуляла в ароматном цветнике или неслась над деревнею по воздуху, слетев с уст певицы, «запузыривавшей» за фортепианом в дворянском доме. Аф. Аф. Фет, верно, был бы недоволен тем, что серый народ без толку тормошит его «милую крошку», но вины Фета в том нет. Столько же виновата и вся действительность. Ветер лист сухой гоняет и треплет, и он то летит, то катится, то гниет в грязи, и потом опять сохнет, и опять из темных мест поднимается. Вот это самое действительное и несомненное; все остальное – зыбь поднебесная, марево, буддийская карма, которая всем точно снится… Никакого первого заводчика песни и сочинителя легенды нет. Порционный мужик, конечно, не сочинял «бедную крошку». Где ему! Он получил ее уже готовую, и за горем своим он развивал ее гораздо слабее, чем все другие импровизаторы… За что же его так участь жестока?
О господи! сжалься над ним, да сошли и нам просвещающую веру вместо суеверия!
Из всех «запятых» самые ужасные – те, которые скрываются во тьме суеверий.
1892 г.
«Атта Троль». (Прим. автора.)