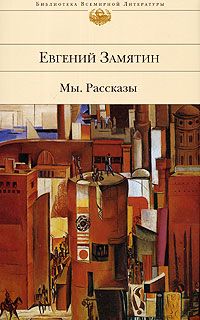Одну секунду солнце покачалось на краю стены — и сорвалось вниз. За стеной все вспыхнуло, несколько мгновений верхушка стены была медная, потом потухла — и оттуда вдруг дохнуло холодом, тьмой, как будто раскрылась дверь в подземелье.
С Цыбина сорвало зюйдвестку, он засмеялся — хорошо! — и крикнул Олафу: «Лови!» Олаф погнался, прижал шляпу ногой к палубе, подал Пыбину. Бетер с маху ударил в паруса, бог накренился, покатилась и грохнулась в борт бочка, Олаф побежал за ней.
— Куда, куда? Брось… после! — кричал, стоя у мачты, Фомич. — Рифы бери да парусах, поворачивайся!
Складками подтянули снизу оба паруса, ветер теперь упирал в них меньше, бот выпрямился. Цыбин оглянулся на елу: ода шла ровно, спокойно, она так же, как Цыбин, знала, что все будет хорошо.
Ветер сейчас ударил только один раз, — и где-то, сколько видно глазу, всюду мчались по черной воде белые гребешки. Торопясь, наскакивая друг на дружку, они неслись как перепуганное, почуявшее опасность, стадо. Над крышей опять высунулось круглое лицо Клауса. Он поглядел в небо, что-то по-норвежски сказал брату, Олафу.
Цыбину вспомнилась хозяйка, ее холодные руки. Он подумал: «Где она теперь?»
Вдруг опять дохнул ветер, во всех снастях засвистело, сразу стало туго дышать. Цыбин раскрыл рот, соленый ветер ворвался и запел во рту, стало еще веселее, еще отчаянней.
Рядом с мачтой, расставив ноги, стоял Фомич, будто вделанный в палубу так же прочно, как мачта. Он прокричал Цыбину сквозь ветер:
— Эй, ру-уль! Право на бо-орт!
Похоже было, что старик сдрейфил и решил повернуть скорее к берегу все равно куда, чтобы только где-нибудь переждать шторм.
— Что? Боишься? — крикнул Цыбин, держа руль по-прежнему.
— Поговори у меня! Клади руль! — яростно заорал Фомич.
Цыбин темно, где-то на самом дне в себе, понял, что Фомич знает лучше, он сейчас тот, кто может и имеет право убивать, приказывать. Цыбин послушно, из всех сил налег на погудало руля, бот повернул. Очень близко от себя он увидел Олафа, лицо у мальчика было совсем белое. Он пальцем показывал куда-то через плечо Цыбина, губы его шевелились, но слов не было. Цыбин оглянулся. Море под ними как будто провалилось, осело, и другое море катилось на них высокой, как дом, стеной, с черной верхушки сплевывалась белая пена.
Крепко вцепившись пальцами в железо, Цыбин глядел, как водяная стена догоняла, догнала елу, ела рванула буксир, зарылась в воду носом — и тотчас же взлетела наверх. Одно мгновенье она стояла там наверху, Цыбин запрокинул голову, любовался на нее и шепотом кричал ей: «Так, так, милая ты моя, так!» Потом огромная, зеленая, как бутылочное стекло, вода выросла совсем перед глазами. Цыбин зажмурился. Его туго ударило в спину, окатило с головы до ног, палуба под ним пошла кверху. Где-то внизу мелькнула бледная голова Олафа, он выплевывал воду и одной рукой сгребал ее с лица.
Вода кругом шуршала, как тысячи аршин шелка. Бот сейчас был внизу, между двух водяных гор. Здесь казалось тихо, ветер свистел наверху, сплескивая белую пену. Фомич взглянул туда одним глазом, как наседка на коршуна. Было ясно, что, когда бот поднимется на волну, штормом разорвет паруса в клочья или сломает мачту. — Рони паруса-а! — крикнул он Олафу.
Олаф держался за лебедку, отхватиться от нее и сделать по палубе хоть один шаг — для него было то же самое, что для солдата вылезти из окопа. Но он, как и Цыбин, нутром знал, что сейчас можно умереть, но нельзя не исполнить команду Фомича. На подгибающихся, ватных ногах он пошел к парусам и помог Фомичу спустить их. В ту же секунду со всех сторон облепил ветер, бот был снова на верху волны. Совсем низко, над головой, с шумом неслось темное, каменное небо.
Волна была длинная, цыбинская ела и бот шли на одном уровне. Бот шел медленно, ветер его теперь почти не задевал, но этот же ветер быстро гнал вперед порожнюю, высоко сидевшую над водой елу. Буксир ослабел. Будто заигрывая, ела уже подбежала к корме бота. Сквозь пену Цыбин увидел ее веселые, желтые, будто солнцем покрашенные, бока. «Ах, ты… моя!» — сказал он, радуясь на нее. Она была уже совсем близко и, не останавливаясь, все быстрей неслась к боту, Цыбин глядел на нее.
И вдруг всю его радость как смыло волною: обмякшими ногами, животом, всем телом он внезапно почуял — (В сейчас случится что-то ужасное. Он не успел понять, что: все это было в одно быстрое, падающее мгновение. А в следующее — ела с размаху уже ударила в корму, дерево хряснуло, ела отскочила.
— Фомич! Фомич! — сквозь свист ветра отчаянно крикнул Цыбин.
Фомич все видел, он был уже здесь, около Цыбина, и тут же очутился Клаус с топором в руке. «Зачем же топор?» — издали, со стороны подумал Цыбин. Клаус вскочил на корму, замахнулся над буксирным канатом. Только тогда Цыбину стало все ясно: Клаус хочет обрубить буксир, он хочет бросить елу — его, Цыбина, елу — в океане!
Он кинулся к Клаусу, выхватил у него топор и бешено, тихо сказал ему:
— Если ты только… Я тебя самого… ссволочь! Клаус попятился, губы у него тряслись, он налетел задом на Фомича — Фомич теперь стоял на месте Цыбина, держа брошенное им погудало руля. Клаус закричал плачущим голосом:
— Фомич, говори ему ты, он должен сейчас рубить, он нас всех пропадет!
Бот уже снова поднимался на огромную, черную волну — и снова ела, перепрыгивая через белые гребешки, неслась к боту. Фомич стоял, крепко вросши в палубу, губы у него были плотив стиснуты, но сейчас они откроются и скажут.
Темно, на дне, Цыбин знал Фомич — это судья, и то, что он скажет закон. Похолодевшими пальцами вцепившись в топор, Цыбин ждал.
Сквозь косые, серые веревки дождя ела виднелась уже совсем близко. С трудом, чуть слышно Фомич сказал, не глядя на Цыбина:
— Руби…
У Цыбина перехватило горло, чтобы; не видеть — он зажмурился; поднял топор. И закрытыми глаза тотчас же увидел: серебряное кольцо на руке у Анны; белые водяные вихры от играющей в море селедки, бабье лицо человека в мурманке, хозяйку с желтыми волосатми и елу, какой она стояла там, в гавани, радостную, нарядную, как невеста.
Цыбин громко всхлипнул, бросил топор, и ничего не видя, хватаясь за что попало, пошел — все равно куда. Там, где позади него остались все — ударили топором еще раз, еще раз. Елы больше не было, больше не было ничего.
Цыбин сидел на полу, на палубе, возле лебедки. Через ноги перекатывалась вода, и он видел за бортом круглую, черную воду, так, не понимая, видело бы ее зеркало, если его поставить тут, возле лебедки. Потом, как будто сквозь двойную зимнюю раму, Цыбин услышал: кто-то говорит с ним. Это был Олаф. По лицу его катились крупные слезы, он говорил Цыбину: «Ты не плачь, пожалуйста, не плачь». — «Я — ничего-…» — сказал, а может быть, только хотел сказать Цыбин.
Олаф встал и, стоя над Цыбиным, вгляделся в серый, хлещущий воздух. Он толкнул в плечо Цыбина, глаза у него блестели.
— Гляди, гляди! — крикнул он Цыбину. Цыбин поднял голову и увидел свею. елу. Теперь, без буксира, еще легче резала воду, она неслась сюда, к Цыбину, она не хотела бросить его, она сейчас будет совсем близко. У Цыбина сразу налились теплым, стали живыми ноги, руки, глаза, он вскочил… Ела — тут, она — тут, ему нужно что-то сделать — и опять все будет хорошо.
— Эй, эй! Куда! — услышал Цыбин и потом еще что-то по-норвежски — это, должно быть звала хозяйка елы. Потом сейчас же понял: — это Клаус, он на корме возле Фомича. И успел увидеть еще Фомич, глядя одним глазом на елу, круто поворачивает бот, чтобы елу пронесло мимо, — чтобы она не задела.
Все это мгновенно падало одно за другим. Нос елы мелькнул за кормой, она обогнала, ее ударило ветром, на одну секунду она ласково, тесно прижалась к боту. И этой секунды Цыбину было довольно, чтобы прыгнуть туда, к себе, на свою елу. Ей как будто это и было нужно: она сейчас же отошла от бота, и Цыбин уже не слышал, как вслед ему кричали Фомич, Клаус и Олаф.
Сквозь косо хлещущий сумрак они еще два раза увидели елу. Второй раз она была отделена от них и от всего мира глубокой водяной ямой — Цыбина они уже больше не могли разглядеть.
1928