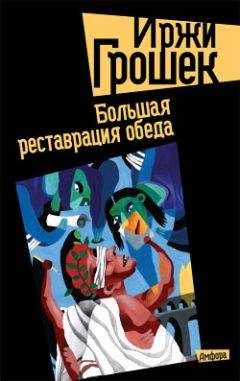Мама говорит, ты права, мало кто нам радуется, хотя с немцами им тоже не сладко было.
Можно мне на улицу, я спросил, надоели разговоры.
Сначала поесть... но у нас нет ничего, мама только идет на рынок, мама говорит. Нет, есть хлеб, он мягкий, вкусный, я раньше могла его есть без всего.
Без чего?
Ты разве масла не помнишь, я же покупала.
А, да, я вспомнил, противное - жирное.
Я взял, хлеб мне понравился, он тает во рту, папа говорит, когда голоден, во рту все тает. И я пошел на улицу.
Только если что, сразу домой, говорит мама. Я не понял, что если что, пошел смотреть, как наш дом стоит, и что рядом.
Да, в кухне понравилась шафрейка, это в стенке в углу узенький шкафчик спрятан, треугольный, в нем два отделения, большое внизу, три полки, на них даже бумажки остались, старые газеты, немецкие, бабка говорит, сейчас выброшу эту гадость, чтобы ничего от времени, когда нас не было. А верхнее отделение высоко, там отдельная дверца, я на табуретку встал - треугольная каморка маленькая, в задней стенке круглое отверстие прямо на улицу, из него пахнет свежим воздухом.
Все здесь как было, как было, как было, бабка все время говорит, в шафрейке продукты можно хранить, не портятся.
Только мы вернулись не все, она говорит, не все, не все.
Ольга и Сильвия
Утром мы с мамой пошли за хлебом, на углу хлебная лавочка была, она говорит, заодно посмотрим, как там...
У подъезда стоит женщина с метлой, наверное, дворничиха. Мама остановилась и говорит - Ольга, что было то было, давайте не ссориться больше, вам не нравится, но мы вернулись. У нас нет зла, пусть эти вещи...
Какие вещи, дворничиха говорит, она не старая высокая женщина, видно, очень сильная, метла в большой руке. Она больше мамы в два раза, я испугался, вдруг стукнет метлой... Какие вещи, все продано, проедено, мы выжить хотели, у меня дети.
И даже прибавился один ребенок, мама говорит.
Ну, и что, у меня немец жил, офицер, потом его убили, когда русские бомбили город. Они весь центр на кусочки разнесли, а немцы ни дома не тронули. А ребенок не при чем.
Мама ничего не сказала, потом говорит, зачем же чужое брать.
Я родилась в подвале, в нем умру, мы хоть пару лет пожили на воздухе, в сухости, кто мог знать, что русские победят, а их евреи вернутся.
Не все, не все, сказала мама, осталось немного.
Она отвернулась и пошла, слезы по щекам льются.
Я за ней, а тетка стоять осталась, я понял, это она занимала бабкину квартиру.
Маме ничего не говори, сказала мама, ты большой мальчик, должен понимать.
Улица оказалась короткой. Сначала лесопилка, дом низенький но широкий, стены из больших камней, серых, неровных, мама говорит, их выкапывают за городом из земли. Потом несколько деревянных домиков, и поперек нашей идет другая улица, Томпи, она тоже, как наша, в круглых камнях, вбитых в землю, ходить по ним трудно, зато такая дорога вечная, мама говорит, раньше умели делать простые вещи, а теперь подавай асфальт, он ровней, зато каждый год чинить приходится.
В конце нашей улицы стоит желтый домик деревянный, вход со двора, там крыльцо, над ним вывеска, по-русски написано ХЛЕБ и еще одно слово непонятное, это по-эстонски хлеб. Мы вошли, там деревянный пол, все деревянное, блестит, чисто и светло. Было несколько человек, они разговаривали с продавщицей, низенькой толстой женщиной с белыми кудряшками, она все время смеялась, давала хлеб, считала деньги и смеялась.
Люди отходили весело, наконец, мы подошли, толстуха посмотрела на маму, охнула и говорит - Зи-и-на... И мама заплакала, они обнялись через прилавок, очень неудобно было стоять, но они так стояли, и обе плакали. Потом эта женщина, Сильвия, начала быстро говорить по-эстонски, смотрела на меня, гладила по голове.
Мы еще поговорили, взяли серую булку, даже две, называется сепик, мама сказала, очень полезный хлеб, наполовину ржаной, и пошли обратно. Я хотел пойти еще по новой улице, но побоялся просить, мама плакала, говорит, милая Сильвия, мы в детстве играли с ней, она придет к нам, папа до войны ее мужа от смерти спас. У него болело в груди, а оказывается воспаление в кишке, только папа сумел узнать, а если б не узнал, ее муж бы умер. А теперь он все равно умер, его немцы застрелили.
За что, я спросил, она говорит, случайно, у них этот магазинчик сто лет, муж ехал на машине за хлебом и попал под обстрел, немцы с партизанами боролись.
Здесь тоже были партизаны?
Здесь все было, такая каша, не разберешь. А теперь у нее ни мужа, ни магазина, она продавщица в нем. Как в жизни все перемешалось, то что мы хотели и ждали, оказалась не таким, а то, чего боялись, не хотели, теперь нестрашным кажется, и даже милым, как вся наша довоенная жизнь, это сказка была.
Папа ей говорит, не сказка, как быстро плохое забывается, и слава богу. Меня в больницу не брали работать, потому что еврей, и я работал врачом на заводе, разве не так?
Так, так, она говорит, только очень трудно теперь.
Это из-за войны, он говорит, а если б ее не было ...
Если б не было, бабка говорит, мои оба мальчика на Урале были бы закопаны, а что, неправда? Ты очень партийный стал.
Не забывайте, Фанни, русские нас спасли, и дали нам все, что сумели.
Немного они умели, когда ворвались сюда, среди летнего дня до войны. Они хлеба белого не видели, по улицам разгуливали в пижамах, думали, красивая одежда такая.
Опять вы со своими анекдотами, папа говорит, я не об этом говорю. А... он махнул рукой - надо выжить, вы дома, а я на виду, и должен знать что говорить.
Бабка не ответила, ушла готовить обед.
Как будем жить
Еще мне плита понравилась, у нее три входа, с одной стороны двойной вход, сверху топят, снизу выгребают золу, с другой стороны большие ворота, духовка, можно печь пироги, только бабка печь не умеет, бегает к своей сестре Циле, та ее учит, но говорит каждый раз - забудешь, тебя, Фанечка, бесполезно учить, ты у нас красавица-незнакомка. Циля печет еврейское, бабка часто приносит, в бумаге завернуто, и мы с чаем едим по вечерам. А кроме духовки, на самой плите в углу дверца поднимается, под ней большой бак с водой, она нагревается, когда плита топится, и можно горячей водой мыть посуду, не нужно чайник нагревать.
У окна столик, для обеда всем места мало, но за ним можно сидеть, завтракать одному, смотреть в окно на площадку. Пол в кухне не паркет, а коричневый линолеум, в двух местах, у стола и у двери, дырки в нем, видны доски. Надо сменить, сказал папа, а бабка - нет, нет, это Рувим прорезал, пусть будет. Папа не стал спорить, и в комнате работы хватит, нужен стол для бумаг, и нет кровати, это главное. В задней комнате они будут с мамой спать, наконец, вдвоем, папа говорит, а в передней комнате мы с бабкой, здесь нужно ширмочку поставить, она думает, чтобы кровати не видны, это моя гостиная была. Мам, говорит мама, зачем нам гостиная, к нам теперь некому ходить... хотя ты права, поставим круглый стол, как было, да? Вдруг кто-нибудь еще вернется из друзей? Где только достать такой большой стол, с одной толстенной ножкой, она с узорами была... места за ним хватало всем.
Я снова не то сказала, говорит.
Но бабка не расслышала, надо на кухню, притащила много всего с базара, ужасно дорого, как мы проживем?
Пойду работать.
Посмотри на себя, Зина, тебе лечиться надо, а не работать.
Ничего, главное, мы вернулись. Теперь все пойдет как надо, ничего. Мальчику до школы год остался, уже большой.
Я спросил, где же спали твои братья, если стол большой, для кроватей места мало.
Они перед войной отдельно жили, но каждый день приходили к маме.
Ты тоже каждый?
Нет, мы ругались. Мама всегда хотела, чтобы было по ней, а я упрямая.
Да уж, бабка говорит, нашла коса на камень. Но не рассердилась, улыбнулась даже.
А когда маленькими были, как вы умещались?
Бабка подошла к стене - тут была дверь, за ней еще три комнаты, теперь они в соседней квартире.
Понемногу мы начали здесь жить.
Ходим на базар
По утрам бабка берет сумку, идет со мной на базар. Она не любит со мной ходить, мне без тебя легче торговаться, у тебя терпения никакого. Я ей говорю, купи скорей, а она - ты не понимаешь... Но я все равно хочу с ней ходить, там интересно, шумно и страшновато - перед входом нищие поют песни, вернулись с войны и не доехали домой, или никого у них... размахивают руками, у многих нет пальцев, обрубки остались. Один парень без ног, его зовут Костя, разъезжает между всеми на тележке, отталкивается от земли двумя деревяшками, голова курчавая... и смеется. Что же он смеется, я не мог понять. Другому, у которого совсем рук нет, льют водку в горло, он булькает, мычит, струйка течет на подбородок. Бабка крепко сжимает мою руку, мы проходим мимо. Я спросил ее, может надо им бросить монетку, она говорит, все равно пропьют... и не могу я к ним подходить, не могу... На базаре не так шумно. Больше продавцов мужчин, старых, они эстонцы, продают белую свинину и кровь в больших бидонах с бурыми крапинками, рядом с бидоном всегда стакан с розовыми пятнами от пальцев. Чтобы пробовать.