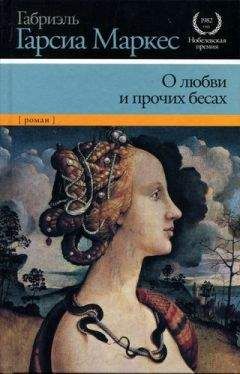Таким образом, мы пришли к чрезвычайно странному и любопытному результату. Г. Достоевский не пользуется темами, подходящими к свойствам его таланта, и в то же время втискивает эксцентрические идеи туда, где их в действительности нет. Это объясняется очень легко, если мы примем в соображение, как богат г. Достоевский эксцентрическими идеями. Они, очевидно, его просто мучат, теснятся в его фантазии в гораздо даже большем количестве, чем художественные образы. Прошу покорно выносить в голове Ивана Царевича и два поколения невообразимого разврата и разрушения или теорию самообожествления посредством самоубийства, которую исповедует и практикует Кириллов. Раз подобная теория сложилась в голове автора, она требует исхода. Значит, автор уже органически не может взяться за беллетристическую эксплуатацию, например, духовного союза Татариновой или спиритизма. Там есть свои, готовые теории, свои эксцентрические идеи, а г. Достоевскому надо прежде всего сложить свое собственное бремя. И понятно, что удобнее всего его сложить туда, где больше места, где действительность создала наименьшее количество эксцентрических идей и теорий. Г. Достоевскому нужны только подходящие рамки, готовое драматическое положение и слабый намек на возможность эксцентрических идей. Намек этот должен быть, но чем он слабее, тем лучше, тем просторнее продуктам фантастической лаборатории автора. Конечно, это обобщение может показаться слишком поспешным. Но я только предлагаю объяснение, в пользу которого говорят и еще кое-какие соображения. Сюда относится вышеупомянутое пожирание тучных коров поэзии тощими коровами фантазии людей, находящихся на границе ума и безумия. Сюда же относится и самое пристрастие автора к этой границе. Герои г. Достоевского как раз настолько безумны, что им позволительно уклоняться от самых неопровержимых истин, и в то же время как раз настолько умны, что могут излагать довольно связно весьма замысловатые идеи. Люди нормальные для г. Достоевского неудобны, так как им нельзя вложить в уста эксцентрическую идею. Сумасшедшие тоже не годятся, потому что тут пришлось бы довольствоваться совершенно бессвязной галиматьей.
Выше было сказано, что г. Достоевский напоминает Бальзака, конечно, не по симпатиям своим, а только по богатству эксцентрических идей и наклонности к изображению исключительных психологических явлений (небезынтересно заметить мимоходом еще одно сходство: фельетонный способ писания широко задуманных вещей). Но разница вот в чем. Бальзак, во-первых, гораздо смелее, потому что берет иногда не только исключительное психологическое явление, а нечто совершенно невозможное, фантастическое (например, Серафит). Во-вторых, взяв какой-нибудь редкий феномен, большею частью одностороннее развитие какой-нибудь страсти, он уже за ним только и следит, на нем одном, от имени его одного только и строит свои эксцентрические теории. Вследствие такой сосредоточенности роман получает иногда удивительную силу, идея романа (а не действующих лиц) вырезывается с необыкновенною ясностью, а вместе с тем оправдывается и исключительность сюжета. Менее плодовитый г. Достоевский наделяет эксцентрическими идеями всех, кого только физически возможно наделить ими (в «Бесах» они прорываются даже у Федьки-каторжника и пьяницы капитана Лебядкина). Носители эксцентрических идей оказываются при этом придавленными не только нравственно, что и хотел изобразить г. Достоевский, а и в художественном отношении, чего он, разумеется, не желал. В результате получается нечто многоцентренное, расплывающееся, ряд насильственно пригнанных драматических положений, в которых чрезвычайно трудно ориентироваться. А между тем, в «Бесах» г. Достоевский желал быть как можно яснее. Он, во-первых, снабдил роман двумя очень характерными эпиграфами. Один – стихи Пушкина:
Хоть убей, следа не видно
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
. . . .
Столько их, куда их гонят.
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж отдают?
Другой эпиграф взят из евангельского рассказа об исцелении бесноватого, о том, как изгоняемые Христом бесы попросили у него позволения переселиться в пасшееся недалеко стадо свиней и как потом свиньи бросились в озеро и потонули. Эпиграф этот получает в конце романа специальное объяснение. Верховенский-отец, больной, просит сиделку прочитать ему рассказ об исцелении бесноватого. Та читает, а Степан Трофимович предается по этому случаю некоторым излияниям. «Видите, – говорит он между прочим, – это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie que j'aimais toujours [7] . Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и пошли уже, может быть! Это мы, мы и ты, и Петруша… et les autres avec lui [8] , и я, может быть, первый во главе, и мы бросаемся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и „сядет у ног Иисусовых“… и будут все глядеть с изумлением».
Таким образом, г. Достоевский весьма обязательно сам дает ключ к уразумению «Бесов». Но это мало подвигает дело вперед. Если бы еще г. Достоевский ограничился первым эпиграфом:
Хоть убей, следа не видно,
бились мы, что делать нам? —
то идея романа могла бы быть хоть и слишком общею, но зато по крайней мере ясною. Второй эпиграф, в особенности в связи с его объяснением устами Степана Трофимовича, показывает только, что идея романа замысловата, что тут есть некоторая претензия. Но ключ к ее уразумению предлагается в виде аллегории, которую не сразу и поймешь. Спрашивается, в чем состоят миазмы, нечистота, бесы и бесенята, в течение веков копившиеся в нашем больном? Кто это «мы и ты, и Петруша et les autres avec lui», о которых говорит Степан Трофимович Верховенский? Кто эти свиньи, в которых вселяются бесы, изгоняемые из больной России? В чем, наконец, состоит их бесовский элемент? В самом романе трудно найти ответы на эти вопросы. Пожалуй, многие действующие лица его действительно напоминают бесноватых, но, конечно, дело не в этом прямом смысле слова, а в аллегории. Формула «мы, мы и ты, и Петруша et les autres avec lui» обобщает элементы чрезвычайно разнообразные, так что нелегко усмотреть их совпадающие стороны. «Петруша et les autres avec lui» представляются, например, нам, то есть Степану Трофимовичу Верховенскому, в виде «подлого раба, вонючего и развратного лакея», который при известных обстоятельствах «взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала (Сикстинскую Мадонну) во имя равенства, зависти и пищеварения». Со своей стороны, и Петруша et les autres avec lui осыпают «нас», Степана Трофимовича Верховенского, эпитетами, полными ненависти и презрения. И эти враждебные отношения вполне объясняются действительным внутренним различием обоих лагерей. Далее, в каждом из них мы опять-таки видим только различия и различия. Люди, представляющие собою исключительные психологические феномены, уже сами по себе составляют нечто, трудно поддающееся обобщениям. А так как в «Бесах» эти люди суть большею частью только подставки для эксцентрических идей, то становится еще труднее стать на такую точку зрения, с которой все они сливались бы в понятие стада бесноватых свиней. В самом деле, эксцентрическая идея непременно стоит, если можно так выразиться, ершом, она не имеет ничего общего с идеями неэксцентрическими и другими эксцентрическими, так что ряд подставок для эксцентрических идей не подлежит никакому синтезу; нет ведь возможности подвести им итог. И потому, как ни старался г. Достоевский быть ясным, он этого не достиг.
К счастью, тут подвернулся «Гражданин». Потому ли, что идеи «Бесов» вообще сильно занимают г. Достоевского, или потому, что «Дневник писателя» пишется под непосредственным влиянием писания «Бесов», но дневник этот может быть рассматриваем как комментарий к «Бесам». Многие мысли «Дневника» высказаны уже в «Бесах» разными действующими лицами, и в особенности молодым студентом Шатовым, или, в переводе на язык действительности, убитым Ивановым. Комментируя «Бесов» «Дневником», мы уясним себе многое.
Николай Ставрогин, по первоначальному по крайней мере замыслу автора, должен был, по-видимому, быть самым заметным из действующих лиц романа, некоторым его центром. Вышла, однако, фигура с претензиями, но крайне тусклая. Шатов, Кириллов, Лебядкин повторяют ему одну и ту же фразу: «Вспомните, как много значили вы в моей жизни», но это значение остается невыясненным. Шатов ждет от Ставрогина многого, рассчитывая на его гениальность; Верховенский Петр тоже ждет от него многого, но в расчете на его «необыкновенную способность к преступлению». Все видят в нем отчасти натуру крайне сильную, а отчасти крайне слабую. Где-то за кулисами действует Ставрогин в качестве члена тайного «сладострастного» общества, «у которого маркиз де Сад мог бы поучиться», которое «заманивало и развращало детей». Когда-то, опять-таки за кулисами, Ставрогин «уверял, что не знает различий в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвой жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадение красоты, одинаковость наслаждения». Словом, это что-то очень бурное, необыкновенное, но вместе с тем что-то очень плоское, будничное. Так, например, Ставрогин давно записался в граждане кантона Ури, купил там маленький дом и зовет туда с собой по очереди трех ни в чем между собой не сходных женщин: экзальтированную Лизу, преданную Дашу и сумасшедшую Лебядкину. Ему, кажется, все равно, с кем скоротать свою бурную жизнь, но только непременно с женщиной, непременно в маленьком швейцарском доме, никого не видя, ничего не делая. Все поступки Ставрогина как-то изысканно необычайны. И особенно замечательно, что г. Достоевскому очень хочется показать, что он в здравом рассудке. Он даже нарочно для этого сводит его на время с ума: заставляет делать безумные выходки, которые, однако, по общему необъяснимо таинственному инстинктивному убеждению свойственны Ставрогину и в здравом уме. Роман даже тем и оканчивается, что труп самоубийцы Ставрогина анатомируют и «наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство». Это последние строки романа. Очевидно, г. Достоевский хотел тут разрешить некоторую психологическую задачу, но не только разрешения какой-нибудь задачи не вышло, не вышла даже постановка ее. Некоторое пояснение дела найдем мы в «Дневнике писателя» («Гражданин», № 4). Там рассказывается следующая история. Один мужик взялся сделать какую угодно «дерзостную» штуку. Другой и заказал ему: пойти причащаться, но причастия не глотай, а возьми в руки и сохрани. Мужик сделал. Тогда деревенский Мефистофель повел его в огород, велел положить причастие на землю, зарядить ружье и выстрелить в причастие. «И вот только бы выстрелить, – рассказывал потом мужик, – вдруг предо мной как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии». Затем мужик пошел каяться в грехах своих, почувствовал жажду искупления и страдания и отправился за советом к «схимнику, монаху-советодателю», который и наложил на него подходящую эпитемью.