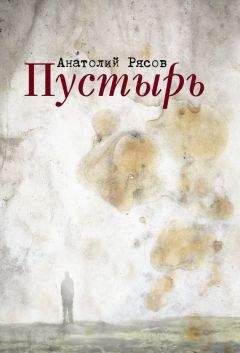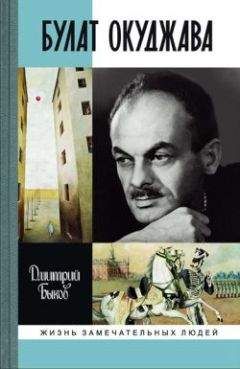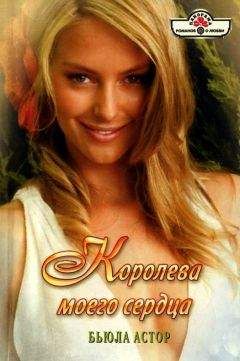Фрида взяла бумажку и даже забыла попрощаться. Она шла, ничего не видя, и не могла объяснить, как оказалась на кладбище -- у нее здесь никого не было. Нет. Неправда. Она стояла перед этим крестом с фиолетовыми расплывшимися буквами, не понимая, как сюда попала, смотрела на фотогра фию и молча произносила: "Конечно, я права. Конечно. Спасибо, спасибо, Агафья Павловна, не волнуйтесь, с внучкой все в порядке. Все в порядке. Я сейчас к ней поеду... не волнуйтесь... ун ди кецеле гезунтер зайт лебт ба мир эйх...7 " БЛУЗКА
Утром нельзя ни в чем клясться. Ничего задумывать. Утренний свет обманчив. Она знала это и стояла у зеркала, не веря своим глазам. Блузка висела у нее на груди, не обнаруживая ни малейшей попытки выпятиться, натянуться, взнуздать пуговицы в петлях, так, чтобы они наклонились и уже стояли почти ребром к телу, вырывая свои нитяные корни из нижней планки, потому что не в силах были сдержать упругого напора плоти. Ничего этого не было. Она провела тыльной стороной ладони по своим бокам на уровне сердца и ничего не ощутила кроме гладкой материи и волнистости ребер. Тогда она перевернула руку и положила ее на сердце, как это всегда делал он. Внутренний слух сразу же обнаружил в пространстве его любимую фразу: "У тебя нет сердца"! Но все остальное, из-за чего он говорил это, и почему до сердца, действительно, было не добраться, -- отсутствовало: ни соска под тем местом, где ладонь делает чашечку, ни самой упругой груди -- все это сморщенное и съежившееся опустилось куда-то вниз, и остатки растеклись по животу... тогда она заплакала тихо и смиренно. Так, плача, она медленно расстегнула все пуговички, настоящие, перламутровые, стянула рукава, отставив чуть назад руки, сложила аккуратно блузку на столе и, опершись на гладкую, блестящую, коричневато -- фиолетовую ткань, закрыла глаза. И он снова вернулся. Встал перед ней. Просунул свои руки под ее, опущенные вниз, положил ладони ей на лопатки и так прижал к себе, что перехватило дыхание, и она опять почувствовала, как слабеют ноги, блузка трещит сбоку по швам, и больше ничего не нужно -- никаких других звуков кроме этого треска ниток и материи, никакого движения и никаких мыслей -- только бы не отпускал и не отходил, и не исчезал, а жадничал, как всегда, будто это последний раз... Наверное, она так стояла долго... пока не закружилась голова. Она молча обмякла на пол, растянулась на нем, раскинула руки и так лежала, ясно видя себя со стороны в синем застиранном платье пенсионного возраста, перешитом из материнского двубортного пиджака от костюма. Наконец, она поднялась, расправила блузку на столе, отерла рукой, вложила ее в пергаментной бумаги пакет, завернула все в холщовую тряпицу и водворила обратно в шкаф, на то же место, на пустую верхнюю полку. Все. Больше продавать было нечего: только блузку... или себя... за блузку можно было выручить на буханку черного... а... она стоила... -- она не произнесла даже мысленно... она не знала, сколько... она стоила. Ей казалось, что она вообще перестала понимать, что происходит в ней и вокруг , и для чего она старается не умереть -- только потому, что умирать нет сил... если бы какая-то болезнь скрутила... и быстренько, но не так, как ей представилось... теперь.
Она подошла к тусклому окну и смотрела на осеннюю размытую улицу, охраняемую буйными головами репейника, вылезающего сквозь гнилые заборы и пытающегося вовсе заменить их собой. "И мужиков то в поселке нет, -- с тоской думала она,
-- дети повзрослевшие и калеки, всегда пьяные и пошлые..." И вообще, она не представляла себе, как это все может быть... что "все" и что "быть" она тоже не могла не только сформулировать, но даже зажмурившись сообразить сама для себя... она натянула ватник, влезла в вечно сыроватые сапоги и вышла... остановилась в двух шагах от крыльца, вернулась, взяла блузку, сложила пакет вдвое и засунула себе за пазуху. После этого уже решительнее спустилась с трех гнилых, черных, скользких ступенек, даже не притворив дверь пустого дома...
По дороге ей попадались знакомые и незнакомые бабы, но она никого не замечала. Кто знал ее, сокрушенно качали головами, другие просто проходили мимо. Потом люди перестали попадаться. Она шла по обочине. Стебли паслена и пижмы ударяли по голенищам, репей зацеплял и пытался притянуть к себе ее подол, и она невольно обрубала его вниз рукой, чуть подогнув одно колено... Когда она достигла разбитого большака, встала, сложив руки на животе повыше и, застыв, стала смотреть на холм. Если пойдет машина, то сначала появится там, на вершине, потом скатится по склону, исчезнет в овраге, а потом начнет подниматься по внутреннему склону, и, как в волшебном фокусе, вырастать вверх из земли, долго не приближаясь, и уж потом полетит прямо на тебя с ворчанием и грохотом по далеко видному большаку. Она стояла долго, неподвижно, покорно и обманывала себя, что ничего не думает. На самом деле единственное, что жило в ней нормальной жизнью -память, а все остальное или боролось с ней, или подчинялось ей. Они гуляли тогда с ним так поздно, что не было смысла возвращаться домой. Тогда они добрели до набережной, долго стояли молча рядом, опершись на каменный парапет животами и глядя на воду. В ней качались дома противоположной стороны, прямые линии стен и окон точно повторяли рисунок ряби, а поверх, ничуть не соперничая и не стирая рисунка, плыли облака, и все краски так мирно сосуществовали, что, казалось, счастье приплывет к ним по этой реке и застрянет именно тут, где они стоят. По правде сказать, так и получилось. Она пошла провожать его на работу. Огромный универмаг как раз распахнул двери, когда они проходили мимо, и он остановился, посмотрел на нее, взял крепко за руку и вошел.
-- Зачем? -- пыталась упереться она.
-- Мы должны купить тебе что-нибудь в память об этой ночи, чтоб надолго...
-- Надолго?
-- Ну, навсегда! -- Поправился он... -- поэтому она никак не могла продать эту блузку и еще потому, что каждая ниточка ее хранила столько его тепла и силы... -- она зажмурила глаза и замерла...
У них была своя комната, а когда они, казалось, насытились друг другом, родилась дочка. И все пошло с начала. Но война, какой там второй... мало ли о чем он мечтал... сын. Сын... эвакуация... сначала заболела мама... еще по дороге в теплушке... и она меняла вещи на продукты и лекарства... потом мама умерла уже здесь через два месяца... сердце не выдержало... а зимой следующего года простудилась Алиночка, и особо менять уже было нечего... нужен был сульфидин, свежий куриный бульон, лимон... воспаление легких оказалось двусторонним...
Она переступила с ноги на ногу и почувствовала, что озябла -- "Нехорошо, -подумала она машинально, -- заболею... ни одна холера меня не берет... Господи, почему ты не забрал меня с ними, если не оставил их со мной?" Но она знала, что ответа никакого не будет, потому что уже много дней и ночей задавала ему этот вопрос. "Когда бомба убивает всех сразу -- это слава Б-гу. Чем так мучаться... зачем он меня оставил? Чтобы дождаться Гриши? Но что она ему скажет? Как объяснит все? И он тоже не пишет уже больше года... ни извещения, ни обратно вернувшихся ее писем --с пометкой "Адресат выбыл", ни ответа из бюро розыска ... " Что она скажет ему... и как может сейчас вспоминать такое!? Но разве это по своей воле наваливаются на нее прошлые дни? А, может, это слава Б-гу, конец? Она слышала, что перед смертью люди всегда вспоминают всю свою жизнь, хотят этого или нет -- итог подводят... Ей показалось, что заурчал мотор. Она вся подтянулась, напряглась, поерзала телом внутри толстой телогрейки, совмещаясь со сползающей вниз блузкой, и даже вытянула шею. Звук пропал...
"И на фронт не взяли... умереть от пули проще, чем тут... с тоски и голода... а когда он расстегивал ее, сердце останавливалось, а потом так начинало стучать, и вся она так напрягалась. Пуговички были тугие, никак не поддавались... он так сладко злился и нервничал -- она вдруг неожиданно для себя улыбнулась... как может она думать об этом! -- Одернула она себя. Но уже не могла остановиться. --... и так дернул от нетерпения ворот один раз, что две перламутровых пуговки сразу отлетели, и одна сломалась пополам по дырочкам...
Теперь ясно было, что идет машина.
Водитель оказался пожилым и мрачным, в ушанке и такой же телогрейке, как у нее. Он остановился, молча распахнул дверцу, подождал пока она вскарабкается на подножку, потом усядется на сиденье, потом, буквально улегшись ей на колени, еле дотянулся до ручки двери, еще раз хлопнул ею, чтобы закрыть плотно, и тронул, ничего не спросив и даже не посмотрев на нее. Так, молча, они и ехали, пока не застряли в огромной луже. Не говоря ни слова, он вылез из кабинки прямо в воду, которая плеснула ему разом за голенища сапог, приподнял сидение, вытянул из-под него топор и отправился в чащу. Два раза он возвращался с огромными кучами веток, которые волок за собой, уложенными на стволе молоденькой елочки. Когда он подготовил колеи, подошел к кабине, в которой она сидела, не двигаясь, и скомандовал: