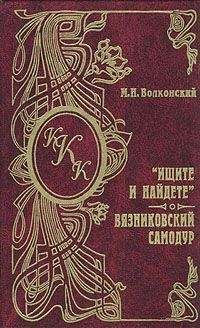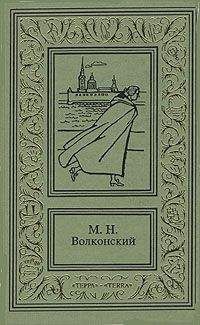Гурлов тяжело вздохнул.
— Нет, все-таки я расскажу вам, — проговорил он после долгого молчания. — Знаете ли вы, что у него под домом в подвалах тюрьмы устроены? На цепь там людей сажают, селедкой кормят и огуречным рассолом поят, а утолять жажду не дают, и дыба у него существует… Он ни в чем себе помехи не знает, делает, что хочет, а хотенью его нет пределов. Он, как безумный… ни пред чем не останавливается и людей мучает…
— Ах, забодай его нечистый! — вырвалось у Чаковнина.
— Ну, вот, — продолжал Гурлов, — представьте себе, если бы вдруг в полной власти такого человека очутилась девушка…
— Ну, что там девушка!.. — сочувственно протянул Труворов, видя, что Гурлов запнулся, потому что голос задрожал у него, и он не в силах был, казалось, продолжать.
— Девушка, которую вы любите, — сделав над собою усилие, выговорил Гурлов.
— Ну-с? — сказал Чаковнин.
— Ну, та, которая вот дороже мне жизни, в полной власти его находится…
Чаковнин вынул трубку изо рта и повернулся к Гурлову:
— Как же это так?
— А так, что она — его крепостная. Крепостная актриса она у него. Она была подростком отдана в ученье в Москву. Обучили ее, воспитали; она по-французски говорит, читала много, образованнее она его самого теперь… Вот в Москве мы свиделись и полюбили друг друга…
— Ну, а теперь она здесь? — спросил Чаковнин, немилосердно пыхтя трубкой.
— Здесь. Две недели тому назад привезли ее сюда. Я за нею приехал.
— Так какого лешего надо вам было в холопы к этому негодяю идти? — снова обозлившись, проговорил Чаковнин.
Он не мог переварить еще то унижение, в котором видел вчера Гурлова, исполнявшего свои камергерские обязанности.
— А что мне было делать? — отозвался тот. — Я приехал сюда один-одинешенек, да и вообще-то на свете один я, родни никого нет. Отец с матерью померли. Только и было у меня, что Маша на свете…
— Здесь-то вы виделись с нею?
— Нет… то есть до вчерашнего вечера не видал я ее… Приехал я сюда, о ней ни слуху, ни духу. Среди здешних театральных не показывалась она, нигде не было видно ее. Стал я расспрашивать — ни от кого даже намека не добьешься, будто и не привозили сюда Маши… Что было делать? Мерзко, гадко, тяжело, а пришлось всем пожертвовать. Одно оставалось: сделаться здесь домашним, чтобы узнать хоть что-нибудь о ней. Ведь управы не найти на него, а тут она его крепостная; значит, он может делать, что хочет… силой не высвободишь ее… Вот почему стал я этим самым камергером… Вы думаете — по охоте? Как же! Что тут испытал я — сами можете судить!..
— Ах, забодай его нечистый! — снова повторил Чаковнин, на этот раз уже сочувственно Гурлову.
— И представьте себе, — продолжал тот, — он ее голодом морит… Только вчера узнал я это.
Гурлов стиснул зубы, охватил колено руками и замолчал, уставившись потерявшими вдруг всякое выражение глазами в одну точку.
— Тогда, как угодно, сударь мой, — сказал Чаковнин, кладя руку ему на плечо, — не могу я взять в толк ваше сегодняшнее намерение, от которого воздержал вас Никита Игнатьевич…
Гурлов не ответил.
— Чего ж вы вешаться-то хотели? Нешто спасли бы этим свою милашку от голода? — переспросил Чаковнин.
— Теперь все кончено. После вчерашнего теперь все кончено! — махнул рукою Гурлов.
— Ну, что там кончено, какой там кончено! — запел вдруг Труворов и, достав из кармана шлафрока табакерку, стал толкать- в бок Гурлова и протягивать ему свой табак, чтобы попробовать хоть этим утешить его.
— Нет, молодец, не кончено, — уверенно произнес Чаковнин, — будь спокоен, высвободим…
— Ну, вот, того… — сказал, вдруг окончательно расчувствовавшись, Труворов с навернувшимися на глаза слезами, — а вы говорили, Александр Ильич, что там тарелки подавать!
— Ну, и сбрехнул, значит, сдуру, — согласился Чаковнин. — А теперь вот вам, — обратился он к Гурлову, — правую руку даю на отсечение, коли я вам не помощник. Рассказывайте дело по порядку. Где она теперь?
— Заперта, должно быть, в комнате.
— Не в подвале, значит?
— Нет, в комнате. Я ее видел вчера там. Сам он водил меня к ней. Вчера, как раздели его, надел он халат, отпустил слуг и говорит: «Возьми канделябру и ступай за мной!» Прошли мы коридором. Он подошел к крайней двери, сам ее ключом отпер. Горница штофом затянута, кровать под балдахином с кружевами, софа, а на софе ничком Маша лежит… Вошли мы, и стал он с нею разговаривать. «Ты, — говорит, — вот три дня не пила, не ела, а видела, как мы сегодня за столом кушали, ну, так вот, если меня слушаться захочешь, сама так же покушаешь». Он ее в голоде держит и с хор на свои обеды глядеть заставляет.
— Ах, чтоб ему подавиться своей оливкой! — крикнул Чаковнин и ударил в крыльцо кулаком.
Глаза Гурлова горели, кулаки были сжаты, и он заговорил быстро, едва переводя дыхание:
— Да ведь она меня видела во время обеда, как я вчера прислуживал ему! Подняла она голову от софы, а я стою с канделяброй. Глаза наши встретились…
— Ну? — воскликнул Чаковнин.
— Ну, не выдержал я, пустил в него канделяброй…
— Молодца! — вырвалось у Чаковнина.
— Он закричал благим матом, повалился. Стали слуги сбегаться, взяли его, понесли… У меня ее глаза до сих пор передо мною. Такая ненависть была в них. Да иначе она и не могла смотреть на меня, если видела меня во время обеда!.. Тут я понял, что все кончено между нами. Бросился я к себе в комнату, не помню, что было со мною… Потом помню уже себя в роще с веревкой…
— Значит, вас не тронули до сих пор? — стал рассуждать Чаковнин, — очевидно, он еще не очнулся с того момента, как вы хватили его. Может, теперь его и в живых уже нет…
— Ну, что там в живых! — сказал Труворов. — Надо того… коли он очнется… какой там… спрятать его, — и он кивком головы показал на Гурлова.
Во флигеле все еще спали. Ставни в нижнем этаже были заперты. Чистое крыльцо, на котором происходил разговор, выходило в примыкавший к березовой роще парк. С этой стороны было совершенно безлюдно. Большой дом стоял в стороне, и только из верхних окон флигеля виднелась из-за деревьев его крыша.
— Ну, нас никто не мог еще заметить здесь и никто не заподозрит, по крайней мере сегодня, что вы у нас. Пойдем к нам в комнату! — сказал Чаковнин Гурлову.
Они поднялись на крыльцо, прошли по темному коридору и благополучно очутились в полутьме своей комнаты, освещенной лишь щелями в ставнях.
— Ну-с, теперь обсудим, как нам быть! — начал Чаковнин, усаживаясь на постель.
Гурлов беспомощно опустился на стул.
— Ничего не поможет! — с отчаянием произнес он. — Она вновь никогда не полюбит меня!..
Труворов закачал головою, отчего кисточка на его колпаке замоталась из стороны в сторону:
— Ну, что там любить! Надо, какой там… человека того…
— Истину изволите говорить, Никита Игнатьевич, — подхватил Чаковнин, научившийся уже понимать бессвязную речь Труворова. — Истину чистую изволят они говорить, — обратился он к Гурлову, — суть не в любви теперь, и особая статья; любит она вас или нет — это еще ничего не известно, потому что девичий нрав таков, что забодай его нечистый… а спасти ее надо, как человека, по человечеству, значит, и для этого должны вы о себе забыть и живот свой положить ради ее освобождения.
— Именно, того, живот!.. — подтвердил Труворов с таким видом, точно не Чаковнин, а сам он произнес всю эту речь.
Гурлов поглядел на Александра Ильича, и проблеск надежды мелькнул в глазах его.
— Да, — проговорил он, — спасибо вам, вы хорошо сказали: если умереть, то за нее, не так, не зря, а за нее… Правда ваша… Ну, говорите теперь, что мне делать?..
— Да вы успокойтесь, батюшка, — улыбнулся Чаковнин. — Сию минуту делать еще ничего не приходится; вот подумаем да обсудим, а вы успокойтесь пока, поберегите себя для нее же. Вот хотите, я кваску налью вам, — и он потянулся к столику у кровати, где стоял графин с квасом.
— Нет, — остановил его Гурлов, — если уж я должен беречь себя, так этот квас пить мне не годится.
Чаковнин внимательно поглядел на него и сказал с расстановкой:
— Эге, я забыл, что вчера мне было предупреждение насчет этого кваса! Я теперь так смекаю, что за него я вас благодарить должен. Это вы мне вчера записку подбросили, теперь понимаю. Так! Значит, я вам жизнью, может быть, обязан, если в этом квасе отрава заключается.
— Отравы нет, — ответил Гурлов, — а только сонные порошки. Вы бы заснули так, что вас сегодня Никита Игнатьевич не добудился бы, а потом пришли бы люди и отнесли бы вас вниз, в погреб. Там вы очнулись бы в беспомощном состоянии.
— Ну, а потом-то как же? Или выхода нет из этого погреба?
— Есть. Только вас там довели бы разными снадобьями до помрачения рассудка и выпустили бы полоумным, а потом жалели бы, что вот, дескать, что приключилось с человеком!..