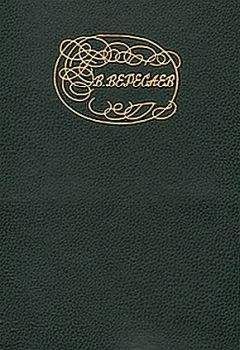В 1864 году, во время работы над «Войной и миром», Толстой пишет Софье Андреевне: «Ты, глупая, со своими неумственными интересами, мне сказала истинную правду. Все историческое не клеится и идет вяло». В 1878 году он пишет Фету: «Прочтя ваше стихотворение, я сказал жене: «стихотворение Фета прелестно, но одно слово нехорошо». Она кормила и суетилась, но за чаем, успокоившись, взяла читать и тотчас же указала на то слово, которое я считаю нехорошим: «как боги».
Восемнадцать лет этой счастливой семейной жизни были для Толстого временем наиболее продуктивного художественного творчества. За этот период им написаны «Война и мир» и «Анна Каренина», не говоря о многих мелких рассказах. Но колоссальная работа по созданию этих произведений берет только небольшую часть сил Толстого. То и дело он отрывается от этой работы для неудержимо манящей его жизни во всех ее проявлениях. В 1863 году он пишет Фету: «Я живу в мире, столь далеком от литературы, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое – удивление. Да кто же такой написал «Казаков» и «Поликушку»? Да и что рассуждать о них?.. Теперь как писать? Я в «юхванстве» опять по уши. У меня пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня». В 1870 году он пишет Фету: «С утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Невероятно, и ни на что непохоже. А livre ouvert читаю Ксенофонта. Жду с нетерпением показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь! Я убедился, что из всего истинно-прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как все». Не зная до того греческого языка, Толстой изучил его в три месяца. Свой «фокус» он показал в Москве проф. Леонтьеву. Тот не хотел верить в возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним a livre ouvert. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Льва Николаевича правильным. Но такой бешеный темп занятий греческим языком совершенно расстроил здоровье Толстого, и ему пришлось ехать в самарские степи лечиться кумысом. Опять всею головою Толстой уходит в школьное дело. Занимается в школе сам, приохочивает к занятиям Софью Андреевну, пишет статьи о народном образовании, подвергает уничтожающей критике существующие методы народного обучения, изобретает свой способ обучения грамоте, устраивает в Москве состязание с Московским Комитетом Грамотности в сравнительных достоинствах своего метода и общепринятого звукового. На ново пишет учебники по всем предметам. «Я до одурения занимаюсь эти дни окончанием арифметики, – сообщает он Страхову. – Вы будете смеяться надо мною, что я взялся не за свое дело, но мне кажется, что арифметика будет лучшее в книге». И тетушке своей, графине А. А. Толстой, он пишет: «Я опять в педагогике, как четырнадцать лет тому назад; пишу роман, но часто не могу оторваться от живых людей для воображаемых». И прибавляет, что о себе ему писать нечего, потому что «счастливые народы не имеют истории».
И все-таки всего ему мало, этому ненасытному к жизни человеку. Жадными, «завидущими» глазами смотрит все время Толстой на жизнь и все старается захватить в ней, ничего не упустить. Все он переиспытал, все умеет, все знает, – и не как-нибудь, не по-дилетантски, а основательно. Приехал в Ясную Поляну один француз. Беседуя с Толстым и графиней на кругу, перед домом, француз подошел к реку, на котором упражнялись сыновья Толстых и проделал какой-то нехитрый тур.
– Вот это искусство вам, граф, уж наверно незнакомо! – любезно заискивающе обратился он к Толстому.
Лев Николаевич засмеялся и начал наглядно показывать французу, как надо обращаться с реком. Француз только покачивал головой и восклицал на все лады: «ого! ага!», при виде, как чисто и отчетливо проделывал Лев Николаевич различные упражнения на руках.
Умел ли Тургенев играть на фортепиано? Знал ли Достоевский древне-еврейский язык? Пробовал ли Гончаров заниматься скульптурой? Играл ли Некрасов в шахматы? Ездил ли Чехов на велосипеде? Играл ли Короленко в лаун-теннис? Умел ли Фет вязать чулки? Вопросы странные и смешные. Какое отношение это имеет к упомянутым писателям? Может, умели, может, нет. А о Толстом заранее можно уверенно сказать: да, все это он пробовал, все это умел. И относительно него эти вопросы не смешны. Я не знаю, умел ли Толстой вязать чулки. Но я знаю, что до женитьбы Толстой проводил длинные зимние вечера в Ясной Поляне со старушкой няней Агафьей Михайловной. И просто нельзя представить себе, чтоб, глядя как она на его глазах вяжет чулки, он не захотел бы сейчас же все это понять и научиться делать сам.
Детское что-то есть в той внимательной и радостной серьезности, с какою Толстой делает всякое дело. И совершенно с тою же серьезностью он способен жить чисто детскими радостями. Девушке-переписчице он уже восьмидесятилетним стариком говорит:
– А как мне хотелось вчера с вами прыгать с лестницы! Главное, обидно было, что никто из вас не умел прыгнуть, как следует. Надо прыгнуть и присесть немножко.
И вот что он пишет в 1864 году жене:
«Веселее всего, даже блан-манже и шума, и Николая Богдановича было вчерашний день то, что мы с Таней и Петей в пристройке повторяли все: «Са-а-аш Куп фер-шмидт!» (!!! staccato) этаким голосом».
Вы только представьте себе: взрослый, тридцатишестилетний человек, как раз в это время писавший «Войну и мир», – произведение, всей глубины которого и доселе еще не в силах вскрыть критика, – засел в пристройке с ребятами подростками и, забавляясь гулкими отзвуками, в радостном одушевлении кричит с ребятами «этаким голосом»:
– Са-а-аш Куп фер-шмидт!!!
Ощущение блаженной и творческой полноты этой красивой, гармонической жизни хорошо передает в своих детских воспоминаниях один из сыновей Толстого, Лев Львович. Мальчик смотрит в окно, как отец едет на прогулку.
«Я наблюдал, как отец садился верхом, как он собирал поводья в левую руку и ловким движением закидывал правую ногу за седло. Не успев вдеть ногу в стремя он отъезжал от крыльца, увозя с собою на простор природы свои мысли и вдохновения. Я хорошо чувствовал тогда настроение отца и то, чем он жил и чем был счастлив. Он писал. День за днем он развертывал из своего воображения бессмертную повесть, и ничто не мешало ему в этом, а, напротив, все содействовало. Он был счастлив, занятый своею любимою работою, потому что она легко удавалась ему, потому что он делал дело, которое прежде всего удовлетворяло его самого, потому что от жизни он в то время получил все, что только мог и чего хотел. У него была жена, совершенно исключительная по достоинствам женщина, была куча здоровых детей, была слава, кругом его была русская природа и русский народ, который он привык любить с детства больше всего на свете…»
Маленький Лева лежит вечером в постели и думает. Из залы доносятся тихие аккорды: отец сидит за фортепиано, обдумывая на завтра свой роман, и тихо играет.
«Умиленный, я засыпаю под эти звуки, чтоб проснуться завтра для нового счастливого дня. Я безотчетно чувствовал в те годы, что целое море счастья было разлито вокруг моей детской жизни; я не понимал тогда, что этим морем, этим великим океаном была жизнь моего отца».
Действительно, счастье было полное. Трудно представить, чего же не хватало для еще большей полноты этого счастья.
И сбылось то, о чем Толстой мечтал в юности: «Мне хотелось, чтоб меня все знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя, – и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь». Так оно и случилось. Стоило Толстому появиться в каком-нибудь собрании, – и все именно бывали «поражены этим известием», готовы были обступить его и восторженно благодарить. Самые знаменитые люди за счастье считали послужить Толстому своим талантом. Однажды Толстой, по случайным причинам, не смог попасть на концерт приехавшего в Москву Антона Рубинштейна, и был этим очень огорчен. Антон Рубинштейн узнал про это, приехал сам к Толстому и целый вечер играл ему. Толстой заинтересовался музыкою Чайковского. И Чайковский, польщенный по его словам, «как никогда в жизни», специально для одного Толстого устраивает в консерватории концерт из своих произведений. Исполнители в этот вечер, – пишет Чайковский, – «играли как никогда. Видно было, что, играя так удивительно-хорошо, они старались для очень любимого и дорогого человека».
Ко всему этому жизнь Толстого отнюдь не была узко-эгоистическою. Беды, которые попадались ему на глаза, вызывали в нем горячий сочувственный отклик и потребность сейчас же вмешаться, действовать. В 1866 году рядовой Шибунин, солдат расположенного близ Ясной Поляны полка, дал пощечину своему ротному командиру, изводившему его несправедливыми придирками. Солдат был предан военно-полевому суду. Толстой выступил его защитником, сказал на суде горячую речь, но, конечно, ничего не добился. Шибунин был приговорен к смертной казни и расстрелян.