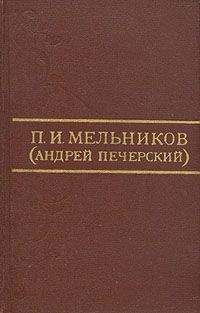— Здорово, собака!.. Сядем рядком, потолкуем ладком.
Тот, разумеется, к ручке и рядышком с Сергеем Михайлычем на лавочке усядется… Сам посуди, mon plaisir, до кого ни доведись — всякому честь с генералом бок-о-бок посидеть!.. Хотя б и не долгое время — а все-таки честь. Малочиновные дворяне и недоросли нарочно по углам улицы из своих холопей вершников ставили — и только те вершники завидят, бывало, Сергея Михайлыча у калиточки, тотчас сломя голову к своим господам и скачут. Сел, дескать. Те в перегонышки к Тихону-чудотворцу в приход. За углом из карет выйдут, да пешечком, будто для-ради променада, к генеральской калиточке и пробираются… А друг друга для того упреждали, чтобы прежде чиновных поспеть и хоть один бы момент с Сергеем Михайлычем рядышком посидеть. Случалось, mon cœur, что за углом-то и до кулаков дело доходило, потому что каждому желательно было первому у Сергея Михайлыча ручку поцеловать. А на глазах у него браниться не смели: бывало и тросточкой…
Кто сядет рядком с Сергеем Михайлычем, тому он, вынувши из кармана табатерочку, понюхать поднесет. Гость возьмет с благодарностью понюшечку виолэ. В наше время, mon pigeonneau, все люди de la societe[28] беспременно нюхали; иной, ежели табак очень уж противен, едучи в гости нарочно кружевную манишку и манжеты табаком посыпала сидючи в гостях то и дело, бывало, в руках табатерку вертит, чтоб зазору от других не принять — он-де не нюхает… И дамы нюхали, et demoiselles при табатерочках ходили. Маленькие такие табатерочки у них были, voiture de l'amour[29] прозывались, для того что из них беспримерно как способно было аматерам les billets doux[30] передавать. А нынче и табатерки, mon enfant, переводятся, — на курево бросились все… Нехорошо!..
Снабдивши себя генеральским виолэ, пойдет дворянчик Сергею Михайлычу комплиментировать с должной политикой и с отменным учтивством.
"— Удостойте, дескать, сказать, ваше превосходительство, в какой позиции драгоценное ваше здоровье находить изволите?
— Ничего, — молвит Сергей Михайлыч, — живем да хлеб жуем твоими святыми молитвами. А ты, собака, как себя перевертываешь?
— Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша атенция раскрывает все мои сентименты и объявляет нелестную преданность к персоне вашего превосходительства.
— Загаланил, пустил в ход мельницу!.. Полно-ка ты, собака, попусту чепухи у меня не мели, а изволь по всей откровенности рассказывать, с кем махаешься, на кого гнилые взгляды кидаешь?
Не успеет дворянчик Сергею Михайлычу про свои амурные цепи путем доложить, как из-за угла другой господчик вывернется, починовнее. Подойдет к калиточке, отдаст решпект Сергею Михайлычу, ручку у него поцелует, Сергей Михайлыч и скажет ему:
— Здорово, собака, здорово… Садись поближе… А ты долой, по тому резону, что этот постарше тебя.
И велит первому сесть на тротуарную надолбу, либо холопам прикажет стул ему из хором принести.
Таким манером, один по одному, да весь le grand monde зимогорский к калиточке Сергея Михайлыча, бывало, и соберется: старые, молодые, женатые, холостые, дамы, барышни — все тут. И драгунский генерал, и комендант, и наместник с наместничихой, заслышав, что у Сергея Михайлыча гости на улице, все туда же. Иной раз по соседству и владыка пешечком придет — очень был дружен он с Сергеем-то Михайлычем. Из дома все стулья, все канапе повытаскают, а по углам улицы полиция, — подлым людям езду воспрещает по той причине, что la haute sociefe забавляется.
Горячее вынесут, подают, что кому на потребу: пунш, взварцы, глинтвейны, а дамскому полу — чай, оршад, фрукты, заедки и всякие закуски… Втихомолочку, mon pigeonneau, потчевали нашу сестру и наливочкой, только не при людях, а в задних горницах либо в кладовой… Марья Михайловна — арапка крещеная — тем делом у Сергея Михайлыча заправляла. Славная девка была, даром, что раба… Ежели погода тихая, на тротуарах столы поставят, за карты сядут. Кто постепенней да поскупее — в ломбер, в ламушь, в тентере, а кто помоложе да потароватее — в фараон,[31] в квинтич и в рокамболь. Дамы et demoiselles в наше время тоже охотницы были в картишки-то перекинуться, иные фараон даже метали… А молоденькие девицы — больше в марьяж, в тресет, в басет да в никитишны.
Разгуляются очень, велит Сергей Михайлыч музыкантам играть да архиерейским певчим петь. Тогда в Зимогорске публичный театр уж был: князь Кошавской, тамошний помещик, целу деревню во сто дворов в актеры поворотил, музыке обучал их, танцам и всему другому. Пятнадцать лет бился с сиволапыми, а на своем поставил-таки: всякие пьесы мужики да девки стали у него бесподобно разыгрывать… Музыканты у Сергея Михайлыча бывали театральные, князя Кошавского: арии и рондо всласть разыгрывали — из «Дидоны», из "Редкой вещи", из "Дианина древа", а певчие духовные канты, бывало, поют да хохлацкие песни… Сам владыка, с пуншиком в руках, иной раз, бывало, им подтягивает… Ужесть как было весело!.. И то случалось, что на улице-то полонез почнут водить да менуэты танцевать. Хоть не больно гладко, да не беда — весело-то зато как, смеху-то что!.. Ах, как утешно живали мы в старые годы, mon cœur… Беспримерно, как утешно!.. Можно чести приписать, уж истинно можно…
Ужину, бывало, подадут тоже на вольном воздухе. На дворе у Сергея Михайлыча, возле кухни, нарочно для этого случая палатку разбивали. Поужинавши, кто постарше, в палатке останутся и пьют там мертвую вплоть до утра, а молодые в сад, с дамами да с барышнями променад пойдут делать. Садище у Сергея Михайлыча десятинах на пяти был — отделан незатейно, зато для утех и веселья очень был способен: аллеи темные, деревья высокие, шпалеры из акации да из сирени густые, а за шпалерами куртины с вишеньем, с малинником да с смородиной… Бывало, после ужина парочки по саду разбредутся… Там шепчутся, тут вздыхают, да то и дело чмок да чмок, чмок да чмок… Всего бывало, mon pigeonneau!.. Ух, чего не бывало, mon cœur!.. И все-то прошло, все-то миновалось!..
А дамы тогдашние и барышни не того калибра были, что нынешние. Что нынче? Дрянь! Очень уж не в меру лебедки рассентиментальничались. Такими innocentes[32] хотят себя казать, что смотреть даже гадко… А все притворство одно, лицемерие… Ей-богу! Не верю я им, mon cœur, и ты не верь — это они так только, дурь одну на себя накладывают. Вся эта ихняя modestie,[33] вся эта ихняя pudicite[34] — одна только умора, — они один только вздор посадили себе в голову. Поверь, mon petit, что никакая женщина без мужчины дня одного прожить не может… Совсем напрасно они жеманятся и кажут себя inaccessibles…[35] Мы это понимали, и оттого в наше время все было просто, к натуре ближе… А теперь?.. Не переродились же они, наши же внучки, — от нас же родились!.. Притворство одно, лицемерие!.. То же самое творят, что и мы в свои годы, втихомолочку только… А это, по-моему, уж гадко… N'est-ce pas, mon petit?..[36] Опять теперь эта la sensibilite[37] — один вздор, mon petit, безотменно один вздор… Ну на что это похоже? Иная словно по кровном покойнике разрюмится, как ходя по лугу цветочек помнет аль бабочку раздавит… Фу, ты, пропасть, какие сентименты!.. Да нас, бывало, мужчины-то самих мяли да давили, а ведь не плакали же мы… А это что за мода такая?.. Одно только безумие, mon petit… Об чем, бишь, я говорила, Андрюша?
— Об вашем кумире, бабушка, об Сергее Михайлыче.
— Oui, mon cher, c'est vrai… Certainement il etait notre idole, il etait idole de nos ames…[38] Ух, какой бесподобный был!..
— Однако, скажите, бабушка, неужели все до единого перед ним так низкопоклонничали?..
— Ах, mon cœur, как ты говоришь! Тебя даже слушать неприятно… Ты мартинист — я это вижу… Ах, Андрюша, Андрюша, — не опечаль бабушку-старуху!.. Долго ли, mon petit, к Шешковскому угодить?.. Низкопоклонство, говоришь… Да разве можно так называть это… уважение, это… это… высокопочитание, это… cette consideration et deference que nous avions а[39] Сергей Михайлыч… Стыдно, mon petit, нехорошо… Ты то не забудь, что Сергей Михайлыч был штатский действительный советник, а ведь это не quelque chose des vetilles, mon cœur.[40] Тогда же генералы-то не то, что теперь — в диковинку бывали… А главное, то вспомни, mon bijou, что Сергей Михайлыч большую фортуну имел и у него при самом дворе были сильные милостивцы. Сам князь Григорий Александрыч с руки ему был; не раз из Молдавии за солеными огурцами адъютантов к нему присылал!.. А ты — низкопоклонство!.. Стыдись, радость моя!..
— Да как же, бабушка? И ручку-то у него, точно у архиерея, целовали, и палкой-то он всякого бил…
— А зато, mon cher, кроме пользы ничего нельзя было и получить от Сергея Михайлыча. Везде у него были благоприятели, все мог сделать, что только душе его угодно. К местечку ль доходному кого пристроить, тяжба ль у кого, под суд ли кто угодит — всякого Сергей Михайлыч выручит, из глубины морской сухим вытащит, умей только подойти к нему. Надежней его заступы и быть не могло; захочет, говорю, со дна моря вытащит… Ему, бывало, стоит только пером черкануть — все в твое удовольствие будет. В коллегиях ля дело, в сенате ли — ему все равно, потому что везде рука… А уж, бывало, кто под гнев к нему попадет, тот лучше ложись да помирай… Бывали случаи…