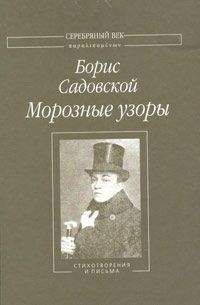— Вот что, Афродит Егорыч: еще ко всенощной не ударили; спойте мне ту самую песенку, что в запрошлом годе певали.
— Слушаю-с. Жалко, гитары нет.
Ах, сугробы вы, высокие снега,
Что не ветром вас с полудня нанесло,
Не метелицей с полночи намело.
Ни пройти я, ни проехать не могу.
Видно, воле моей девичьей конец:
Поведут меня с немилым под венец.
Ну вот, вы и плакать изволите, Мавра Ивановна. Нехорошо-с.
Отрок, рожденный под знаком Рыб, есть флегматик, среднего тела и слабого естества. Имеет долгое лицо, изрядные очи, посредственный рот. Честного жития, добр и милостив, сладкословесен и ради малейшей вещи несмирен. Будет величайший в братии своей и скорого счастия. Супруга придет ему от чуждыя руки.
* * *
Замерцали первые свечи в Крестовой церкви; прошел в алтарь иеромонах.
— Миром Господу помолимся.
И Натуленька под охраной престарелого ливрейного гайдука, крестясь, вступает в белые каменные ворота. Шуршит голубое со шлейфом платье вдоль древней стены, мимо узких стрельчатых окон, мимо слепых и убогих; под легкими шагами чуть скрипят деревянные мостки. В сенцах потемнелые старинные картины: вот царь Саул бросает копьем в Давида, играющего на гуслях; вот из уст Первосвященника исходит пламенный обоюдоострый меч. Натуленька в церкви. Пахнет воском, ладаном, елеем, кадильным дымом: неизъяснимое святое благоухание!
Как василек во ржи, затаилась в толпе Натуленька; жарко молится. А позади, у свечного ларца, упав на колени, обливается слезами Маврушка; вздыхает, кладет без конца земные поклоны, просит у Владычицы помощи и прощения.
* * *
Приданое за девицей Маврой Ивановой. Икона Оранской Божией Матери: риза позолочена, стразовый венец. Серьги с сердоликом и подвесками; колец два: одно с изумрудом, другое с бирюзой. Платки: малиновый бордесца и синий драдедамовый. Платьев три: декосовоё с прошивкой и оборками, цветной кисеи с фалбалой, шелковое с пикинетом. Куцавейка жидовского бархату с беличьей опушкой, на манер горностая. Два атласных салопа: один на лисьем меху, другой с куньим воротником.
— Давно не видал я тебя, Афродит. Ну, как поживаешь?
— Помаленьку, Владимир Иваныч.
— Ты, говорят, получил медаль?
— Серебряную, сударь. От Академии Художеств. Вы как подвизаться изволите?
— Ну, брат, мне далеко до тебя. Я дилетант, а ты художник настоящий.
— Как сказать, Владимир Иваныч. Это материя тонкая-с. Конечно, подражать натуре нестоящее дело. Воображением все можно обнять и покорить. Еще натуру-то эту самую учить приходится.
— Как так?
— А очень просто-с. Натура дура, в ней низкости много. Фламандскую живопись изволили смотреть? на кой она прах, ежели духа не возвышает?
— Откуда ты это взял?
— Да ниоткуда-с, а так сдается. В Пензе у нас студент гостил, так мы с ним про это самое много толковали. Не забыть мне его никогда, будь он трижды проклят.
— За что ты клянешь его?
— Да как же не клясть, помилуйте-с. Ведь он во мне образ и подобие Божие исказил. Обучался я спервоначалу на селе у дьячка: прошел азы, Часословец, Псалтырь и к службе церковной всем сердцем прилепился. Хотелось мне иконописцем стать. А связался я с этим комолым бесом, и все полетело вверх тормашками.
— Почему же?
— Потому что выбил он из меня справедливые понятия. С пустяков началось: «Ты, — говорит, — Афродиша, какие книжки читаешь?» «Божественные, — говорю: — Печерский Патерик, Четьи-Минеи». — «А из светских?» — «Милорда Георга, Бову, Письмовник, Потерянный рай». — «Хочешь, дам Юрия Милославского?» — «Пожалуйте, Виссарион Григорьич». Ну, сами вы, сударь, можете понимать: книжка благородная, слов нету. Хорошо-с. Вот кончил я, приношу. — «А теперь Кавказского пленника почитай». Дальше больше: Пушкин, Полевой, Московский телеграф, Марлинский, альманахи всякие, а по ночам беседы с Виссарионом. Не успел я путем спохватиться, а уж он меня выветрил дочиста. Приду в храм Божий, стою дурак дураком. Стучат по голове святые слова, как дождик по крыше, а в сердце не попадают. Сердце-то у меня мякиной набито: Телеграфом да Онегиным.
— Ты ведь сирота?
— Так точно-с. Сирота круглый. Отца я сроду не видывал и не помню-с, а матушка-покойница была незаконная дочь помещика Струйского. Мы состояли дворовыми у Юрия Петровича. А после матушкиной смерти барин определил меня комнатным казачком. Тут же вскорости Юрий Петрович изволили сочетаться браком с покойницей Марьей Михайловной, а меня приказали отдать в ученье.
— Как же ты в Тарханы попал?
— А это когда молодая барыня скончались, Лизавета Алексевна, маменька ихняя, купили меня у Юрия Петровича, чтобы быть мне неотлучно при барчуке.
Свободу мою стесняет ли Бог? Никак. Во власти у меня быть кем захочу:
и собеседником ангелов, и бессловесным животным. Пусть не небесный я, зато и не земной; хоть не бессмертный, но поистине не смертный. Должен ты стать, о человек, сам своим художником. В сердце у тебя семена всех Божьих миров; цвет и плоды сообразны будут уходу. Ежели ты возлелеешь пшеницу, пшеницу и соберешь; ежели станешь воспитывать плевелы, — плевелы и получишь.
В сердце твоем скорпионы, ехидны, адские пропасти, но там же Триси-ятельный свет невечерний, жизнь вечная, райское царство: там все.
Последний потомок отважных бойцов.
Лермонтов
Кошачьи меха вывозят в Китайское царство; там они меняются на чай. По деревням забирают их кошатники у баб и у девок за колечки витые зеленые, за пестрые ленточки, за стеклянные пронизки.
Пеньку мужики мочат зимою в студеных родниках; потом на снегу ее расстилают бабы: полотно от этого белеет.
Целые горы деревянной посуды везут из Симбирской губернии в Оренбургскую. Меняют посуду на хлеб: сколько ржи в жбан наберется, та и цена за него.
Из Курмышских и Алатырских угодий идет корабельный лес; из Московских и Ярославских — грибы на всю Россию; из Владимирских вишня, клюква, можжевельник, лен.
В Лыскове купцы после молебна на пристани угощают бурлаков водкой, потчуют пирогами и отплывают с песнями в Рыбинск на расшивах, распуская белые паруса.
— Да когда же все это случилось?
— Как раз перед Успеньем, Помнишь, мы сидели у нас в цветнике; вдруг появился Мишель.
— Помню.
— Папенька только что поручил Юрию Петровичу взять на ярмонке в конторе тысячу рублей. И вот уже третья неделя об Юрии Петровиче ни слуху ни духу.
— Ну?
— Папенька ожидал его со дня на день и никому ни слова не говорил. И только вчера я обо всем узнал от Афродита.
— А он откуда знает?
— От папеньки. Приказал во что бы то ни стало отыскать барина. Но если бы ты видел, Николенька, что сделалось с Афродитом, когда он узнал, что Юрий Петрович здесь. Он и крестился, и руки мне целовал, и плакал.
— Ну, а теперь расскажу и я кое-что. Мишель пропал.
— Как?
— Поехал вчера на ярмонку и не вернулся. Так что у Афродита теперь две комиссии. Я ему велел непременно Мишеля найти.
На Макарьевскую ярмарку бухарцы привозят халаты, шали, шепталу, фисташки; за бухарцами едут греки с косхалвой, рахат-лукумом, губками, орехами; грузины везут красную бумагу в мотках; армяне кизлярскую водку. Казанские татары торгуют шитыми туфлями, сафьянными сапогами, мылом.
Железный ряд тянется на две версты.
В галантерейных лавках заморские сукна: зибер, зефир, клер. Платки фуляровые, газовые вуали, муслин, коленкор.
На лотках стеклярус, медные крестики, серебряные цепочки, запонки, бусы, перстеньки, тавлинки со слюдой.
* * *
— И первым делом обошел я, сударь, все притынные местечки-с. По кабакам, по балаганам, по трактирам. Нет моих господ. Наконец того, один татарин показал мне домишко за Китайскими рядами. — Не здесь ли, говорит. Прихожу я, сударь Николай Соломоныч, вижу: ужасти подобно. Комнатенка:
ну, свиной закуток чище-с; сор, паутина, а на диванчике драном барин Юрий Петрович, краше в гроб кладут-с. Я так и взвыл, на колени кинулся. Батюшка барин, что с вами? Как вы сюда попасть изволили, батюшка? А он мне так спокойно: ничего, Афродиша; деньги я чужие потерял. И рассказали целую историю-с.
Деньги они тогда же сполна получили и зашли в Бубновский трактир. И подвернись им на грех полковник Древич, вы не изволите знать-с? С барином нашим в одном полку служили.
— Знаю.
— Ну, известное дело: сели закусить. Что уж там было и как, барин припомнить не могут, а очнуться изволили они у полковника. Хвать-похвать, ан бумажника-то нет.
— Так.
— Полковник им резоны начал представлять. Деньги, слышь, через полицию разыщем, а ты покамест оставайся у меня. Юрий Петрович и жили у них ровно две недели. Только накануне Ивана Постного полковник вдруг приказали закладать лошадей. Служба, дескать; никак нельзя. И уехали в Арзамас. А барину беленькую покинули.