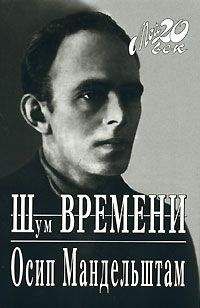От той баснословной, художественной эпохи до сих пор сохранилась у нас привычка верить в силу слов. Когда мы, например, произносим: «идеологический диверсант», или «отщепенец», или «внутренний эмигрант», или «перевертыш» (вместо старого, доброго слова «двурушник», к сожалению, скомпрометированного многолетним употреблением в период культа личности), или «литературный власовец», нас охватывает двойное чувство страха и омерзения перед тем, кто удостоился этого печального звания. Казалось бы (согласно логике), «идеологический диверсант» много легче и лучше прямого диверсанта, который взрывает мосты, пускает поезда под откос и подбрасывает в колодцы стрихнин. Ан нет, — хуже и значительно вреднее. «Идеологический» (ишь как извивается!) означает еще большее изуверство, означает какую-то внутреннюю (как во «внутреннем эмигранте»), увертливую силу, вроде самого черта. Это совсем не мальчишка, давший под секретом прочитать товарищу «Доктора Живаго» (а товарищ — донес). Знаю я этих мальчишек. «Лучше бы ты человека убил!» — говорили им следователи. Тут все дело в скрытой, в подпольной образности слова…
Со мной в лагере сидел старик, осужденный на 25 лет (он уже заканчивал срок) за веру в Бога. Это был православный, из «тихоновцев», то есть из не признавших нынешнюю, официальную церковь (и ему тоже следователи говорили: Лучше бы ты человека убил!). По теперешним нормативам (смотри «Уголовный кодекс РСФСР») — максимум, что ему причиталось, это семерик лагерей («антисоветская агитация и пропаганда»), ну, в крайнем случае, к этим семи можно еще добавить пять лет ссылки. Но старик сидел в лагере 25 лет по старому, уже вышедшему из употребления указу. Старик был уже отрешен от жизни и «качать права» не желал. Однако мальчишки (из тех идеологических диверсантов, кто сидел и сидит за «Доктора Живаго» или что-нибудь в этом роде) писали за старика прошения и жалобы Генеральному прокурору, ссылаясь на явное несоответствие «преступления» и «наказания». И, сколько помнится, всегда — в наши либеральные уже времена «соблюдения полной законности» приходил один и тот же ответ от Генерального прокурора:
— Нет, осужден правильно. Потому что под видом религиозной агитации занимался антисоветской пропагандой!
То есть — если бы старец в открытую занимался той самой антипропагандой, ему можно было бы дать по закону положенные семь лет. Но вот за то, что он делал это «подвидом», так пусть и сидит полностью отмеренный ему четвертак!
«Под видом» — гораздо страшнее. Поэтому «литературный власовец» много ужаснее «власовца» как такового и даже, быть может, хуже самого генерала Власова. Ну что Власов, ну — изменил, ну — предал, перекинулся к Гитлеру (дело понятное, простое). А вот «литературный» ползает между нами, как какая-то неуловимая («идеологическая») гнида, и, поскольку ту змею распознать и расправиться над нею (так чтобы Запад не радовался) значительно труднее, она в своей искусственной, литературной шкуре представляется куда ненавистнее…
Сколько мы ни боремся за соблюдение социалистической законности, сколько ни подписываем международные «Декларации прав человека» (смотря какого человека!), над нами властвует эмоциональное, художественное восприятие слов, пусть те слова будут какими хотите юридическими и сколь угодно научными. Тоже мне — нашли простачков, «хуманность» там всякую развели, «хнишки», «едеолохию». Так ведь ваша «хуманность» хуже татарского ига («ихи»). Иго — оно кончено (в случае чего и потянем), а вот «литература», «искусство» — это неизмеримо змеинее: потому что — тихой сапой.
Я опять склоняюсь к жалости и снисходительности к власти. Вы не представляете, как им больно, физически и душевно больно, переживать весь этот, с позволения выразиться, «литературный процесс».
Он выходит на авансцену истории, на трибуну, и читает по бумажке (тоже ведь трудно!) заготовленный референтами текст:
— Хаспада! Ляди и жантильмоны!
И все, сколько есть, господа (во всяком случае — в России) смеются. А он думает, смутно припоминая, что, закончив два института и при знании трех языков, должен еще что-то объяснять и доказывать этой, будь она проклята, ынтылыхэнсии. «Ну, думает, змеи, попадетесь вы мне в хорошую погоду — под танки!» И говорит, с надрывом, через силу произнося бессмысленные слова:
— Дифствитяльнысть и исхуйство!
И обводит всех черным, печальным, немигающим оком, и печально помавает бровями — чтоб не смеялись. И все, смекнув, чем тут дело пахнет, стихают. И с серьезными лицами слушают международный доклад о новом, еще высшем подъеме и о все более глубоком внедрении писателей в жизнь.
«Бабу бы — вместо жизни — поставить раком!» — думает он между тем, поигрывая бровями, отпив, с глубоким вздохом, полстакана нарзана. «Танками бы вас всех! Танками!» («Шаечками! Шаюшечками!..»)
Последние слова (в скобках) заимствованы из анекдота. Лишь анекдот в недавние времена сохранял ту исключительную, спонтанную жизнестойкость, которая присуща искусству и знаменует что-то большее, чем свобода слова. Сколько на анекдот ни дави (за него в свое время давали и по пяти, и по десяти лет — «за язык»!), он от этих репрессий только набирается силы, причем — не силы злобы, но — юмора и просветления. Анекдоты в течение тридцатилетней ночи и до сих пор сияют, как звезды, в ночной черноте. Да еще доносилась с окраин России блатная песня… Два жанра русского фольклора пережили расцвет в двадцатом столетии — в самых безысходных условиях — и исполнили в некотором роде (когда ничего еще и не грезилось) миссию Самиздата, предполагающего ведь не один только факт публикации на пишущей машинке, но — и это важнее — идею преемственности, традиции, развития, когда один человек что-то скажет, напишет, а второй это сказанное подхватит и продолжит. Будущее русской литературы, если этому будущему суждено быть, вскормлено на анекдотах, подобно тому как Пушкин воспитался на нянюшкиных сказках. Анекдот в чистом виде демонстрирует чудо искусства, которому только на пользу дикость и ярость диктаторов…
До сих пор мы не вышли из полуфольклорного состояния. Когда словесность не имеет силы расправить крылья в книге и пробавляется изустными формами. Но эта участь (участь всякого подневольного искусства) по-своему замечательна, и поэтому мы в награду за отсутствие печатного станка, журналов, театров, кино («И чего-чего у нас только нет! И крупы нет, и масла нет…» — из анекдота) получили своих беранжеров, трубадуров и менестрелей — в лице блестящей плеяды поэтов-песенников. Я не стану называть их имена — эти имена и так всем известны, их песни слушает и поет вся страна, празднуя под звон гитары день рождения нового, нигде не опубликованного, не записанного на граммофонную пластинку, поруганного, загубленного и потому освобожденного слова.
У меня гитара есть
Расступитесь, стены
Век свободы не видать
Из-за злой фортуны,
Перережьте горло мне,
Но только не порвите
Так поют сейчас наши народные поэты, действующие вопреки всей теории и практике насаждаемой сверху «народности», которая, конечно же, совпадает с понятием «партийности» и никого не волнует, никому не западает в память, и существует в разреженном пространстве — вне народа и без народа, услаждая лишь слух начальников, да и то пока те бегают по кабинетам и строчат доклады друг другу, по инстанции, а как поедут домой, да выпьют с устатку законные двести грамм, так и сами слушают, отдуваясь, магнитофоннные ленты с только что ими зарезанной одинокой гитарой. Песня пошла в обход поставленной между словесностью и народом, неприступной, как в Берлине, стены и за несколько лет буквально повернула к себе родную землю. Традиции старинного городского романса и блатной лирики здесь как-то сошлись и породили совершенно особый, еще неизвестный у нас художественный жанр, заместивший безличную фольклорную стихию голосом индивидуальным, авторским, голосом поэта, осмелившегося запеть от имени живой, а не выдуманной России. Этот голос по радио бы пустить — на всю страну, на весь мир — то-то радовались бы люди…
А что поется по радио? Да по радио нынче ничего не поется, и вы можете это легко проверить, если проснетесь пораньше и послушаете, что творится в эфире ровно в шесть часов по московскому времени. Начинается день, и он, естественно, начинается с гимна. Попробую припомнить слова:
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь…
Оборвалось. Слов этих больше не произносят, слова пропускают — потому что, выяснилось, в тех словах, сочиненных С. Михалковым, слишком много доброго сказано про Сталина, которого хорошо бы, конечно, поставить на свой пьдестал, но еще время не приспело, и поэтому и гимн заменить нельзя каким-нибудь другим песнопением, но и тех приятных слов про любимого вождя тоже пока употреблять воздержитесь. Россия, вот уже скоро двадцать лет, существует без своего государственного гимна, и оттого по радио утром вы услышите лишь мычание, переложенное на рев духовых инструментов и медных тарелок. Что-то военное, оптимистическое, могущественное, правда, чувствуется, но что именно сказать невозможно. Если вы находитесь в лагере, вы имеете случай всякий день слышать эту музыку, испускаемую одновременно всеми рупорами и громкоговорителями зоны вместо утренней побудки. Ради объективности следует добавить, что к этим трубным звукам примешивается всякий раз более мелодичный, хотя и несколько тоскливый, бой в лагерную рельсу (смотри «Один день Ивана Денисовича»), и те колокола — внутренние и внешние — удивительным образом переключаются, создавая в душе человека ясное представление, что ничего не меняется и он снова проснулся у себя за проволокой. Утро Родины.