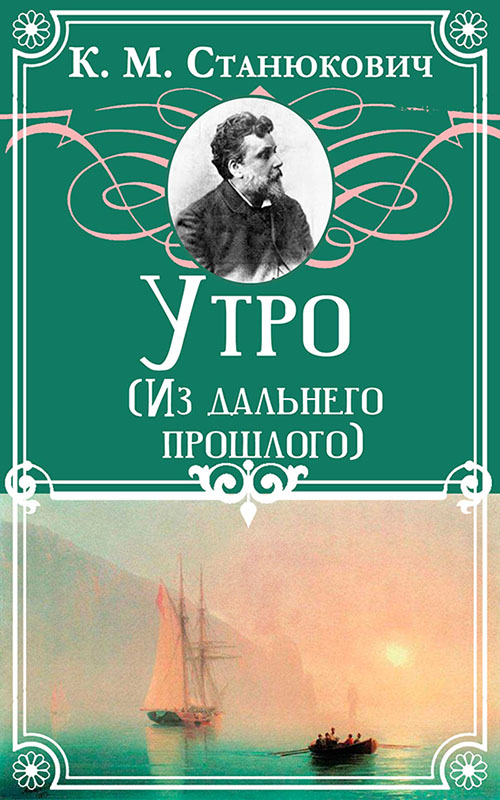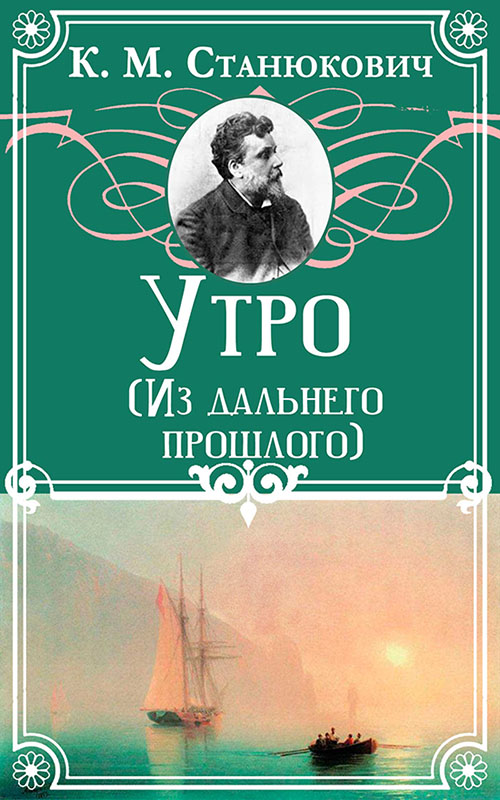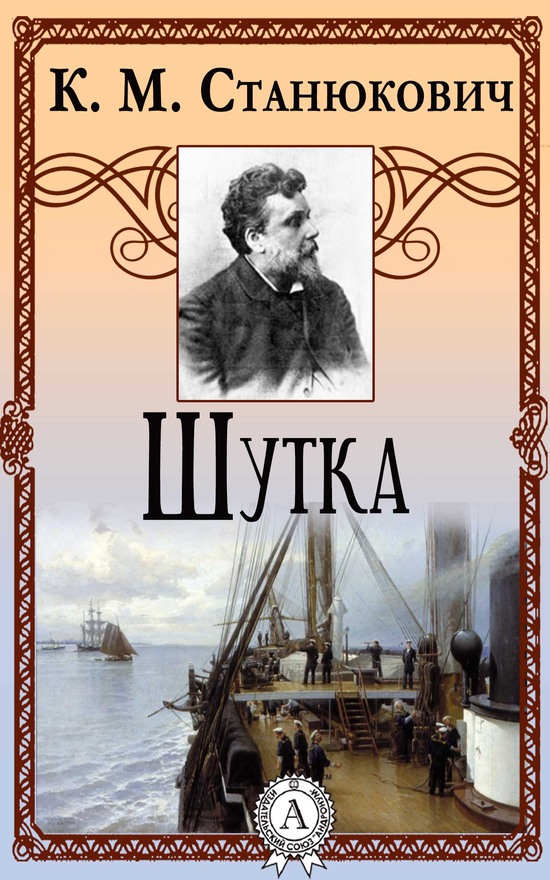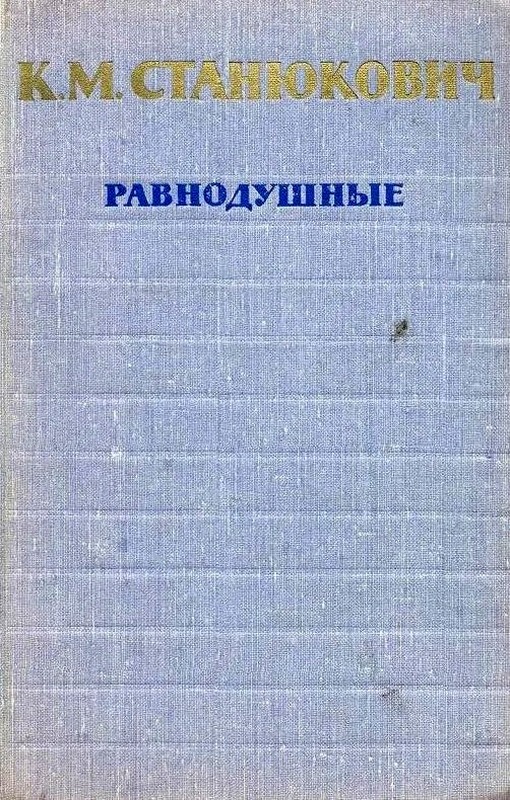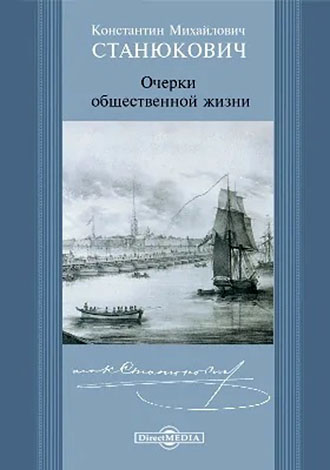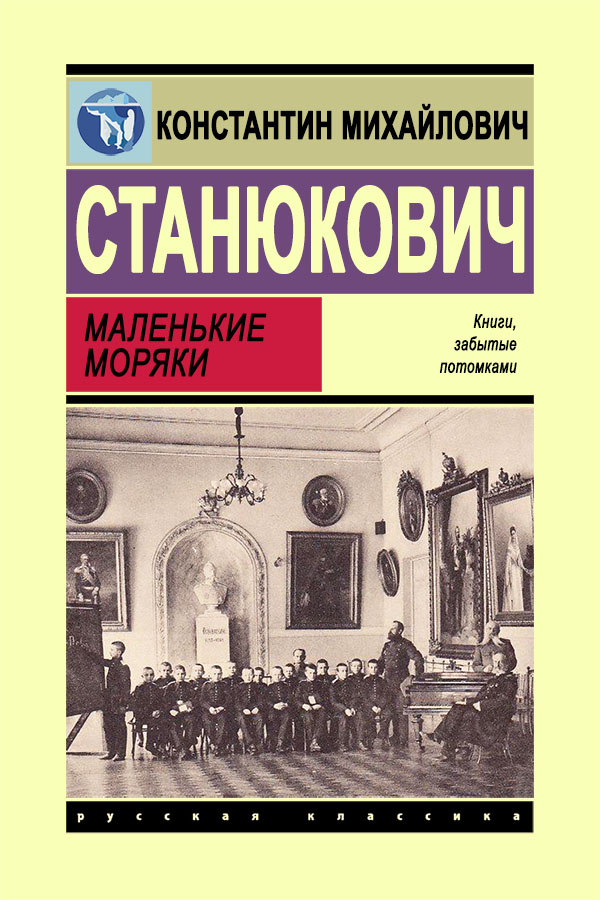из-за исчезновения которой сто тридцать человек переживали жуткий страх, действительно заслужила при жизни ненависть команды «Красавца».
Это была необыкновенно умная и лукавая молодая дворняжка, небольшая, гладкая, темно-каштанового цвета, с пушистым хвостом «крендельком» и торчащими ушами, в которой, казалось, были все подлые черты, возможные только в лживой собаке, попавшей случайно в привилегированное высокое положение.
В присутствии капитана Дианка казалась самой порядочной и доброй собакой, и, стараясь выказывать капитану горячую преданность, она заглядывала ему в глаза, лизала его руки и была особенно нежна и льстива, когда ей хотелось получить вкусную кость на тарелке. Нечего и говорить, что Дианка была послушна и предупредительна, угадывала желания капитана, не осмеливалась при нем выражать своего неудовольствия и старалась какой-нибудь забавной штукой обратить на себя внимание капитана и заставить его улыбнуться…
С офицерами Дианка была приветлива и даже льстива, когда приходила на мостик полежать на припеке, без капитана, и знала, что вахтенный офицер не особенно доброжелателен к ней. Но стоило показаться капитану, чтобы Дианка стала держать себя независимо и подчас вызывающе. И тогда смелей попадалась под ноги офицеру и даже ворчала, если ее отгоняли.
С матросами Дианка положительно была заносчива и требовательна на почтение от них, особенно когда была в близком соседстве с капитаном или с офицером. Но, если ей случалось оставаться без защиты, она принимала обиженный и предупредительный вид и улепетывала в капитанскую каюту или на мостик, лишь только замечала серьезные намерения какого-нибудь матроса незаметно ткнуть или ударить ее.
Она просто-таки не терпела матросов.
При всяком удобном случае Дианка выказывала недобрые чувства и даже презрение к ним и старалась куснуть матроса помоложе, точно понимая, что такой побоится серьезно огреть капитанскую собаку, и нападала на него с большим коварством и обыкновенно не в присутствии капитана.
С самым подлейше-невинным видом собаки, словно бы почувствовавшей раскаяние и потому виновато и льстиво вилявшей хвостом, приближалась она к матросу. И, когда тот доверчиво начинал трепать Дианку, она быстро кусала и удирала на мостик.
С высоты мостика, вблизи вахтенного офицера, она с прежним, словно бы насмешливым, спокойным высокомерием смотрела на обманутого и, казалось, думала:
«Однако этот матрос глупее щенка».
Но необыкновенная изобретательность Дианки шла дальше. Она приняла на себя хлопотливую и, во всяком случае, небезопасную обязанность, которая особенно нравилась ей, удовлетворяя ее злое чувство к матросам.
Как только раздавался окрик боцмана: «Пошел все наверх!» — и матросы торопливо выбегали на палубу, Дианка как бешеная летела вниз и кусала за икры последних, поднимающихся по трапам матросов, причем чувствительнее кусала тех, кто внушал ей большую ненависть.
Как ни лукава была Дианка, налетавшая на матросов из засады и стремительно, ей все-таки приходилось получать торопливые пинки. Они озлобляли собаку и только изощряли ее хитрость, усиливая кровожадное удовольствие охоты.
Чаще других и ожесточеннее бил Дианку, когда ловил ее на палубе, Зябликов, нередко ходивший с покусанными икрами.
Взаимная ненависть их усиливалась, и они боялись друг друга.
Команда была уверена, что командир не знает о такой коварной охоте за матросами. И от кого мог он узнать об этом? Правда, боцман два раза докладывал старшему офицеру о подлом характере Дианки и о том, что ребята «обижаются» на нее.
Но Павел Никитич только смеялся и говорил:
— Глупости. Со вздором лезешь.
Павел Никитич и большинство офицеров восхищались выдумкой умной собаки, которая подгоняет лодырей, слегка хватая за ноги.
Только доктор Иван Афанасьевич, не особенно друживший с кают-компанией, штурман, недолюбливавший флотских, и один мичман возмущались.
Но никто не решился обратить внимание командира на поведение Дианки. Старший офицер отказывался докладывать капитану о «вздоре», о том, что собака, играя, носится за матросами, а другие не хотели вмешиваться не в свое дело.
Да капитан и ни с кем не входил в разговоры. Только говорил по службе и был лаконичен.
В офицерах капитан возбуждал неприятное и досадное чувство робости и какого-то невольного страха перед импонирующею властностью неустрашимости и дерзкого хладнокровия. Его одиночество и нелюдимость и суровая молчаливость интриговали и оскорбляли офицеров. Все были недовольны «мрачным капитаном», как часто называли его.
Несмотря на год командования клипером, он оставался неразгаданным и загадочным. Конечно, еще чаще судачили о нем в кают-компании и пробирали его главным образом за то, что держит себя отчужденно, и, нарушая морские традиции, не приглашает офицеров по очереди к себе обедать и отказался раз навсегда обедать по воскресеньям в кают-компании, да и на берегу тоже всегда один. А со старшим офицером, своим ближайшим помощником, еще молчаливее и скрытнее и не особенно дает ему самостоятельности. Это случилось как-то само собой, без объяснений с какой бы то ни было стороны. Капитан, казалось, не очень-то ценит Павла Никитича, но не разносит. А Павел Никитич старается еще более и еще более боится капитана. Капитан никого не хвалит и никому не делает резких замечаний. И, будто не доверяя никому, во время шторма или во время плавания в опасных местах не сходит с мостика и простаивает долгие часы подряд, ни с кем не советуясь. Он только приказывает.
Интересной и пикантной темой в кают-компании было самое неожиданное для всех согласие Бездолина на назначение его командиром «Красавца» взамен заболевшего капитана.
А Бездолин недавно вернулся из трехлетнего дальнего плавания, пробыл с семьей только полгода и… снова в дальнее плавание на три года…
Разве было можно морякам не «ошалеть» от удивления, когда жена капитана была, конечно, обворожительная женщина тридцати лет и было двое детей у них, разумеется, прелестные?
И после долгой разлуки только шесть месяцев остаться с «очаровательной женой» и «прелестными детьми»?
Конечно, явилось предположение о «страшной» семейной драме.
Разумеется, нашелся в лице мичмана Нельмина сплетник не без «выдумки», который, как все сплетники, знал «все… все» про ближних и потому, конечно, месяца через два после ухода из Кронштадта сообщил в кают-компании имя любовника очаровательной жены капитана и…
— Вы понимаете?! — воскликнул с увлечением мичман.
И на основании письма одного товарища, полученного в Гревзенде, письма, в котором сообщались смутные слухи, мичман рассказал с подробностями, именно и обличавшими сплетню, о том, как «безумно влюбленный» в жену Бездолин, истосковавшийся за три года, вдруг узнал, что его, молодого еще мужа, «очаровательная» променяла… на адмирала Трилистного… «Очаровательная» могла хранить верность только год, и затем…
— Вы понимаете? — снова воскликнул мичман, словно бы для того, чтобы слушатели понимали, что он несомненно врет. — Вы понимаете, в какой ужас пришел