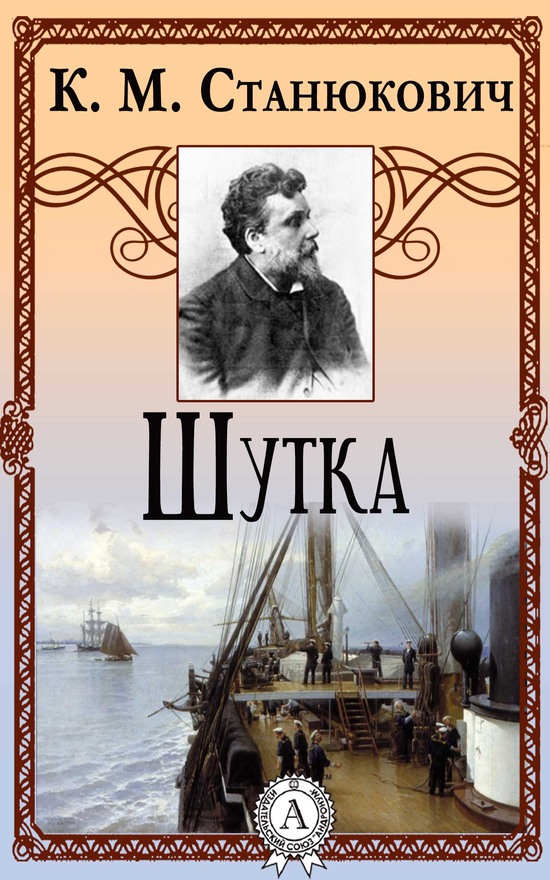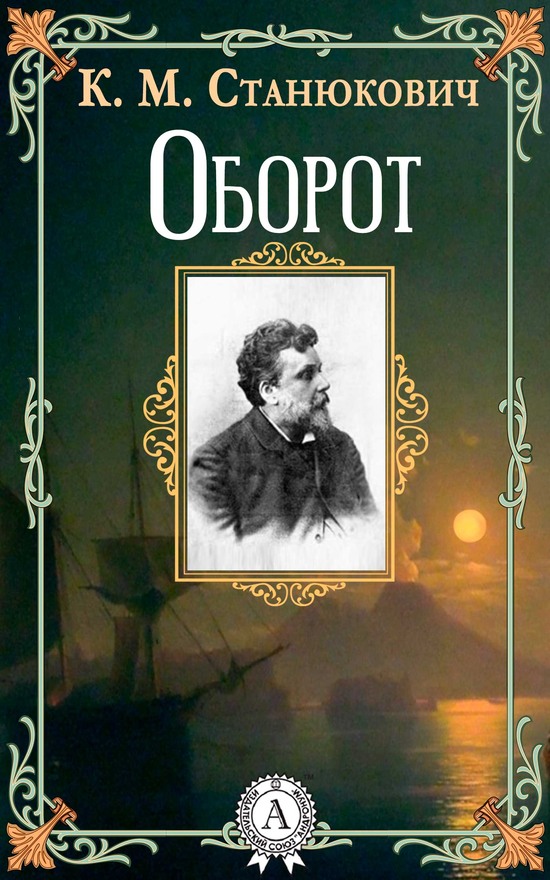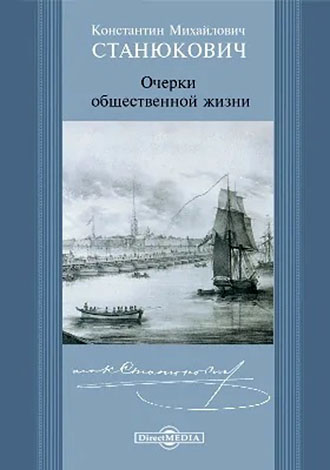тебя по начальству… Ответь-ка насчет бунта!.. Вроде быдто бунт и окажет…
— И отвечу! — возбужденно промолвил Отчаянный.
— Ответишь? Отдадут тебя под суд и в штрафные — это как бог!
— Пусть! — раздраженно, возмущаясь Чижовым, ответил Митюшин.
— Пусть не пусть, а из-за фанаберии [11] отдуешься… Насчет закона горячиться… Права, мол, имеешь? Тебе покажут права… И тебя же люди дураком назовут… Не суйся, мол, в чужую глотку… Мог бы за башковатость и старание в унтерцеры выйти… Ладил бы с начальством и жил бы по-хорошему, с опаской. А теперь за твое мечтание — крышка… Старший офицер строгий, не простит, — потому неповиновение. За это не прощают, не думай. И как пойдет опрос, дознаются, что ты насчет закона да про всякое начальство баламутил из-за своего языка… Не стеснялся своего звания… Вовсе, как дурак, втемяшился… А жил бы да жил, Митюшин, как прочие люди, если бы боцмана не оконфузил…
Отчаянный молчал, словно бы не находил слов, и, казалось, был подавлен.
И Чижов, подумавший, что Отчаянный струсил, прибавил:
— Одна есть загвоздка. Избавился бы от беды…
— Какая?
— Повинись перед боцманом. Тоже и ему не лестно, как в суде его обскажут… Пожалуй, простит… А тебе что?
Отчаянный серьезно ответил:
— Ай да ловко уважил! Спасибо, приятель!
— За что?.. Куда ты гнешь?
— Вполне открылся, какой ты есть, с потрохами!
— Видно, не нравится, что обо всем полагаю с рассудком?
— Даже с большим рассудком — обессудил меня дураком…
— Не лезь на рожон. Не полагай о себе… Помни, что матрос.
— А поклонись я боцману и выйди в унтерцеры да беззаконно чисти твою лукавую рожу, так поумнею? Обскажи-ка! — с презрительной насмешкой промолвил маленький матрос.
— Ты все зубы скалишь!
— А как же с тобой?
— В штрафные, что ли, лестно?
— Беспременно желаю. Оттого и зубы скалю!
— Перестанешь! — злобно сказал Чижов.
— И скоро?
— Хоть завтра пройдет твоя отчаянность!
— По какой-такой причине?
— Отшлифуют на первый раз за боцмана. Небось, прошлое лето выпороли одного матроса и перевели в штрафные… Очень просто!
Митюшин ужаснулся при мысли, что его завтра же могут позорно наказать, и возмутился, что свой же брат, матрос, точно злорадствует позору ближнего и беззаконию.
Но в темноте вечера, у борта на баке, где два матроса беседовали, Чижов не видел бледного взволнованного лица и сверкающих черных глаз Отчаянного.
— Пусть шлифуют! А ты смотри! — вызывающе кинул он, скрывая свой ужас.
Чижов удивился:
— И с чего это ты такой отчаянный? Не могу я в толк взять…
— Ветром надуло…
— Где?
— На фабрике.
— Так. А на царской службе тоже, значит, надуло? — иронизировал Чижов, оскорбленный тоном Отчаянного.
— Верно, что так…
— Чудно что-то…
— Видно, не слыхал, что люди тоскуют по правде? — вдруг воскликнул Митюшин.
Чижов недоверчиво усмехнулся.
— То-то не понять! Душа в тебе свиная, а рассудок подлый… Еще рад, что матроса отпорют без всякого закона! Думаешь, только больно, — а не то, что позорно и обидно… И что присоветовал!.. Совесть-то в деревне оставил… А я полагал, что ты хоть и трус, а все-таки с понятием втихомолку! — негодующе прибавил Митюшин, возвышая голос.
— Ты что же ругаешься? Это по каким правам?
— Вали к своему боцману… Виляй свиным своим хвостом и обсказывай. Может, и ты ему про меня кляузничал… Так заодно…
— Усмирят тебя, дьявола отчаянного!
И Чижов, полный ненависти к нему, отошел.
Раздали койки. Митюшин долго не засыпал, думая грустные думы.
С полуночи он вышел на вахту и мерно шагал по палубе, ни с кем не заговаривая; он снова думал, одинокий, тоскующий, как вдруг к нему подошел матросик-первогодок.
Митюшин остановился.
— Что тебе? — спросил он.
Матросик застенчиво и душевно проговорил, понижая голос до шепота:
— А тебя, Митюшин, господь вызволит из беды за твою смелость. Я хоть и прост, а понял, отчего ты тоскуешь. Из-за правды тоскуешь. Из-за нее проучил боцмана! Жалеешь матроса, беспокойная ты душа!
— Спасибо на ласковом слове, Черепков! — горячо и взволнованно проговорил Митюшин.
И смятенная его душа просветлела.
Отчаянный вдруг почувствовал, что он не одинок.
VI
Утром, когда на «Грозящем» шла обычная «убирка», боцман Жданов был еще неприступнее и ходил по кораблю, словно надутый и обозленный индюк.
Сегодня боцман наводил большой страх на матросов. Более, чем обыкновенно, он сквернословил, придираясь из-за всякого пустяка, и несколько матросов прибил с хладнокровной жестокостью, не спеша и молча.
Отчаянный волновался.
Одному матросу, у которого из зубов сочилась кровь, он возбужденно и громко сказал:
— Что ты позволяешь этому зверю боцману тиранствовать над собой? Он не смеет драться!
Матрос молчал. Притихли и другие матросы, стоявшие вблизи. Притихли и любопытно ждали, что будет. Боцман стоял в двух шагах и слышал каждое слово Отчаянного.
Но Жданов только бросил на Митюшина беспощадный злой взгляд и пошел далее, великолепный, строгий и высокомерный.
«Сегодня будет разделка!» — решил Митюшин.
Действительно, за четверть часа до подъема флага вестовой старшего офицера вприпрыжку подошел к Митюшину.
— Старший офицер требует в каюту! — проговорил невеселым тоном вестовой.
И, понижая голос, участливо скороговоркой прибавил:
— Освирепел… страсть! Сей минут боцман был у «цапеля» и на тебя, Митюшин, кляузничал… Я заходил в каюту и слышал, как боцман против тебя настраивал. Так ты знай!
— Спасибо, брат! — порывисто проговорил Митюшин.
— А первым делом помалкивай… Слушай и не прекословь. Как отзудит, тогда обсказывай: так, мол, и так! Дозволит!
Митюшин, слегка побледневший и возбужденно припоминая смелые слова, которые хотел сказать, быстро спустился в кают-компанию.
Там сидели почти все офицеры корабля вокруг большого стола за чаем.
При появлении Отчаянного оживленные разговоры