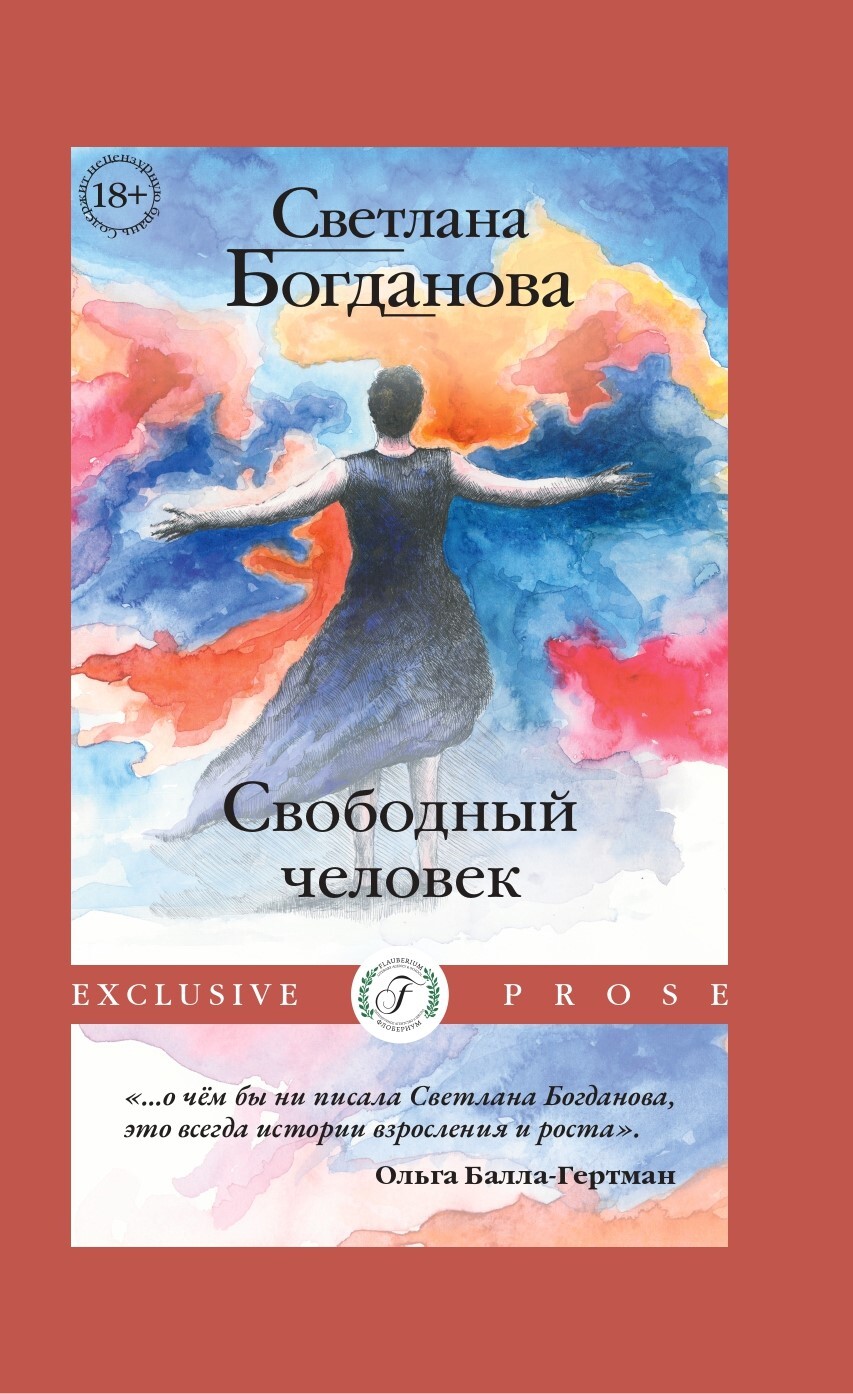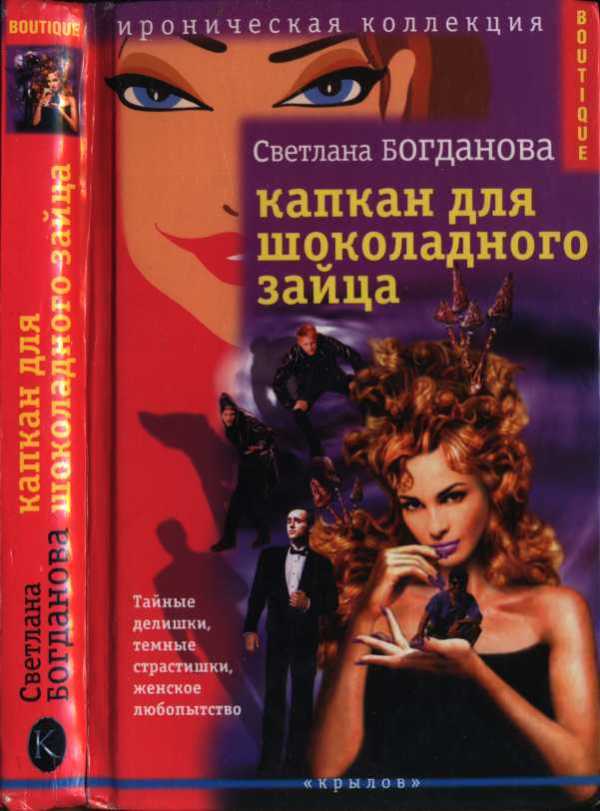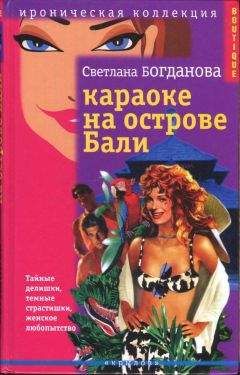никого давно не беспокоило, более того, оно всем представлялось совершенно обыденным делом.
*Я помню: Иокаста решила идти в давно выбранное ею место на рассвете, когда фиванцы еще спят, и лишь чужеземные торговцы, только открыв глаза, но не найдя в себе сил, чтобы встать и, перекусив лепешкой с козьим сыром, отправиться на базар, продолжают лежать и подсчитывать в мыслях проданный товар. Ее верная рабыня помогала ей, она быстро семенила вослед своей госпоже, придерживая два нелепых остроконечных крыла, пришитых к платью из перьев, чтобы Иокасте было легче передвигаться.
Я как следует разглядела ее, когда она поднялась на гору Сфингион и, встав над пропастью, посмотрела вдаль, туда, где, покрытый сизой утренней дымкой, просыпался город. Рабыня, стоявшая позади нее, в страхе оглядывалась, она не видела меня, однако была чем-то напугана. Прошло несколько мгновений, и она взмолилась, чтобы госпожа отпустила ее, Иокаста позволила ей уйти. Как только стихли шаги рабыни, я подошла к Иокасте и обняла ее. Поначалу мы обе ничего не чувствовали, лишь слегка кололо во внезапно налившейся сонливостью голове, да перед глазами замелькали, зарябили пестрые, невиданные нами доселе узоры. И вот я ощутила сухое дуновение ветра, пропитанного еле заметным ароматом жарящихся в городе лепешек, и страшная боль сдавила мне грудь. Я застыла над обрывом, наполняясь слезами и злостью. Когда-то я слышала о скорняках, пьющих утром теплую кровь только что убитого животного, чтобы вновь и вновь убивать – до темноты. Я ничего не пила, но вдруг словно бы вся пропиталась этой свежей, пьянящей кровью; когда я была готова к убийству, послышался легкий стук осыпающихся камешков, и передо мной предстал мой первый путник.
Песок и копоть давно забились в петли городских ворот, которые теперь открылись медленно, с тяжелым скрежетом, для того только, чтобы сквозь узкую щель внутрь скользнул слабый старик – в ореоле дыма и зловоний. Незнакомец сделал несколько шагов вдоль стены, пока солдаты не заперли засовы и не остановили вошедшего почтительным обращением. Тот замер и, спустя несколько мгновений, медленно, словно боясь внезапного удара по спине, повернулся. Лицо его было похоже на лицо статуи – не только странной бледностью и глубокими ровными морщинами, измявшими лоб и щеки, но и тем, что глаза на этом лице как бы и вовсе отсутствовали. Вернее, зрачки – радужка была неопределенно блеклого цвета, будто она выгорела от солнечного жара; всем, глядевшим в них, казалось, что старик смотрит лишь внутрь самого себя, – потому глаза потеряли выражение и напоминали двух правильной формы влажных рыбок – живых и подвижных. Эти рыбки были такими ослепительными и блестящими, что сияли серебристым светом, а яркое их свечение оттенялось густо-черной туникой, облекавшей худое тело старика чуть ли не от самого подбородка до пят.
Повернувшись наконец к солдатам, Тиресий (ведь это был именно он, великий прорицатель и скиталец) усмехнулся – обыденно и просто, давая страже понять, что не собирается дальше двигаться без ее дозволения. Солдаты неуверенно переглянулись, их неуверенность вызвала на поблекших старческих губах новую усмешку, и тогда оба воина, осознав, что белые рыбы, извивающиеся под седыми бровями Тире– сия, вовсе не бездействуют и старик замечает все, происходящее вокруг, – медленно, но уже с большей уверенностью, поклонились ему. Он ответил им кивком головы.
я всегда боялся стражи мне представлялось я в чем-либо виноват только я никогда не мог понять в чем именно думаю многие люди испытывали подобное и все же моя боязнь полагаю нечто особенное ведь я не совершал в своей жизни того о чем можно было бы жалеть ведь всякому своему поступку я доверял словно он не мой собственный но поступок моего лучшего друга моей тени вот и теперь я снимаю повязку и дрожу мне необходимо слабое бесцветное оправдание перед внушающими страх яркость окружающего мира уничтожает месиво красок смущает обнаженные глаза это уже и не краски вовсе но пугающая смесь из самых острых и самых загадочных ядов мира жар струится в меня жар сминает мне ресницы жар проникает по гортани в желудок жар царапает внутренности я испугался стражи снял повязку я комкаю свои стены разрушаю свое убежище свою крепость не вижу ничего кроме того что дано воспринимать моим безрассудным зрачкам играй моя арфа извивайся в моих мыслях как обнаженная нимфа расплавленный тростник играй моя арфа играй
«…любой островитянин, стоя на берегу и вглядываясь в даль, не увидит ничего, кроме матового морского блеска…
Поступки людей, обитающих там, как и их желания, не обладают тенями, поэтому островитяне правдивы и наделены даром предвидения – ведь мысли их, лишенные тяжести и темноты, способны лететь вперед быстрее времени.
Среди местных жителей встречаются и древние старики, которым, судя по свидетельствам очевидцев, уже много сотен лет, эти старики могут быть глухи либо слепы либо страдать от какого-либо тяжкого недуга, однако поведение их пристало называть бодрым, они словно бы не замечают собственных изъянов, слепцы по необъяснимым причинам продолжают хорошо видеть, а глухие обладают недюжинным слухом…»
Эдип перечитал последнее предложение: оно ему показалось нелепым. За окном войско Креонта продолжало выстраиваться в виде неясных знаков – хвостатых звезд и многоярусных лабиринтов. Зачем Креонт с утра до вечера занимается этой дикой муштрой, отдавая войску странные, мяукающие приказания? Почему он никогда не отпускает солдат, даже когда тяжелое красное солнце повисает неподвижным горящим шаром над каменными стенами Фив и по улицам струится песчаная поземка, закручивающаяся смерчиками и вползающая в стянутые яркими тканями входные проемы домов? Лишь поздним вечером солдаты Креонта отправляются в прохладные казармы, но даже посреди ночи генерал поднимает их, чтобы проверить, насколько они готовы защищать свой город и что они станут делать, если внезапно нападет враг… А может быть, в одну из таких ночей Креонт поднимет войско и ворвется во дворец Эдипа, впрочем, ведь до сих пор он ничего подобного не пытался сделать, даже когда Эдип впервые поднялся на башню Иокасты; когда впервые в сумерках мимо него скользнула смуглая тень рабыни и, покорно склонив голову, исчезла за поворотом, трепеща и смущаясь, Эдип слушал шелест босых пяток, удалявшийся прочь под нежный плеск лавандовой воды. Даже тогда Креонт не предпринял ничего, он лишь сдержанно указал победителю Сфинкс, где находятся покои женщины, которая готова сделать Эдипа царем. Но теперь – теперь дети выросли, Иокаста так и не очнулась после своего многолетнего сна, теперь город окружен гниющими и тлеющими телами, каждый новый день приносит с собой новый страх,