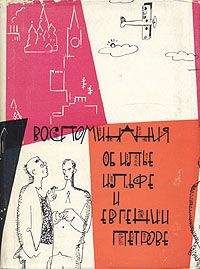Не знаю, удалось ли мне хоть в какой-либо степени дать читателю представление о том, какой человек был Петров. Помог ли я читателю увидеть Петрова таким, каким его помнят те, кто с ним встречался, - всегда взволнованным и вместе с тем удивительно сдержанным и корректным, всегда готовым взяться за любое дело, куда угодно поехать, подружиться с человеком, если он стоил того, или повздорить, если для этого были причины?
Почувствует ли читатель, как великолепно этот человек был приспособлен для жизни, для работы, для борьбы, как жадно он жил, работал, боролся?
И как многому можно было научиться, работая вместе с ним и следуя за ним по тем неизменно трудным дорогам, которые он избирал...
ЕВГЕНИЙ ШАТРОВ
НА КОНСУЛЬТАЦИИ
- Да, да, прочел... Встретимся послезавтра, в два часа дня, в "Литературной газете".
Я бережно положил телефонную трубку. Встречу назначил Евгений Петров. Писал я тогда (1939 год) в соавторстве с С. Шатровым, и наши фельетоны уже печатались в "Крокодиле", в "Смене", в "Комсомольской правде". Хотелось узнать мнение о себе такого строгого редактора, как Петров. Мы послали ему два новых фельетона с просьбой "проконсультировать".
В назначенное Евгением Петровичем послезавтра соавтор мой был болен, и я отправился в "Литературную газету" один. Петров опоздал на пять минут. Он вошел, стройный, худощавый, стремительный, приглаживая на ходу волосы, и тут же извинился за опоздание.
Отыскав пустующую комнату, мы сели за небольшой квадратный столик, вроде шахматного. Петров выглядел очень усталым, невыспавшимся. Вынув из внутреннего кармана пиджака наши рукописи, он положил их перед собой. Затем достал тоненький автоматический карандашик в металлической оправе.
Один фельетон Евгений Петрович отодвинул в сторону, а другой быстро пробежал, ставя кое-где на полях птички. Отодвинутый фельетон представлял собой юмористическое повествование о некоем вымышленном поэте, пишущем только на юбилейные темы. Хитрыми мотивировками мы заставили нашего героя лишиться настольного календаря, после чего он претерпевал творческую катастрофу.
Кончив расставлять птички, Петров тронул пальцами рукопись отложенного фельетона и сказал:
- Это печатать нельзя! Календарь - старая тема, о календарях уже было.
- У кого было? - спросил я.
- Не помню, но было. Ах, да, Катаев писал о календаре! И еще кто-то... А для того, чтобы иметь собственный голос, нельзя писать о том, о чем уже писалось. Пусть писалось не именно это, а что-то похожее, напоминающее, близкое. Все равно нельзя повторять! Мысль должна быть абсолютно новой.
Он сделал короткую паузу, а затем, оживляясь все больше, продолжал:
- Существует множество банальных тем, которыми нельзя пользоваться, несмотря на их сохранившуюся актуальность. Нельзя писать о теще, хотя и сейчас есть тещи, отравляющие человеку жизнь. После революции возникла тема о фининспекторе. Она так исписана, что звучит как тема о теще. Несколько лет писалось о том, что машинистка - кисейная барышня. Затем пришлось писать фельетоны, доказывая обратное, доказывая, что машинистка труженица. Тема жалобной книги возникла до революции. Ввел ее Чехов. Но теперь бесконечно повторяют Чехова, пишут про жалобную книгу "по Чехову". Нельзя этого делать!
Петров уже встал со стула и ходил по комнате, энергично жестикулируя.
- Фельетонист должен развивать в себе отвращение к банальности! говорил он. - Важно, кто сказал первый, а не кто удачно перепел или усовершенствовал. Ремингтон изобрел пишущую машинку и умер в бедности. Машинку после его смерти усовершенствовали, но на ней стоит "Ремингтон". История проявляет пластинки, и тогда выясняется, кто сказал первый, кто открыл! Все это относится не только к теме фельетонов, но и к приемам, выражениям, словам...
Евгений Петрович взял одну из наших рукописей и, уже мягко, сказал:
- Вот есть здесь фамилия Пружанский! А ведь эта фамилия уже была, у нас с Ильфом была.
Мне стало и неловко и обидно. Я прекрасно помнил, как искали мы эту фамилию. Был у нас знакомый директор цирка Пружанов. Начало фамилии показалось подходящим для нашего персонажа, но окончание звучало как-то приглушенно. Тогда мы переделали Пружанова в Пружанского. Я рассказал об этом Петрову.
- Да ведь речь идет не о прямом заимствовании! - воскликнул он. Пишущий человек окружен атмосферой уже известных в литературе положений, мыслей, острот, слов. Они носятся в воздухе. Часто они приходят ассоциативно. Не знаешь даже, где слышал! Возможно, что ваше воспоминание о цирковом директоре наложилось на воспоминание о фамилии, прочитанной в чужом фельетоне. Не важно, как это произошло, важно, что фамилия Пружанский употреблялась... Надо постоянно проверять себя, контролировать. Беспощадно отсекать чужое! Преодолевать атмосферу банальности! Ее трудно избегнуть. Если меня попросят быстро сравнить с чем-нибудь луну, я наверняка дам банальное сравнение... Значит, в таких случаях не следует торопиться!
Петров сел и начал вертеть в руках металлический карандашик. Он продолжал говорить, как бы подводя итог сказанному:
- Особенно строго должен относиться к себе тот, у кого есть данные для своего слова, для собственного голоса. Писать надо по-своему, и писать как можно острее! Первое время от этого будет, может быть, и плохо, но зато потом будет хорошо (не через месяц!). Напечататься сейчас легко и понравиться тоже не трудно. Не соблазняться такими возможностями! Говорить только новое! И еще один совет: не обязательно в каждой строке острота. Лучше пусть будет больше острых мыслей, чем острых слов!
Затем Петров принялся за разбор второй нашей рукописи. Это был фельетон о песенниках, спекулирующих на конъюнктурных темах. Фельетон Евгению Петровичу понравился: "Печатать можно хоть, сейчас", - сказал он. Разговор пошел об отдельных огрехах, отмеченных птичками. К сожалению, даже не огрех, а непростительный ляпсус оказался в первой же фразе, с первого же слова. Фельетон начинался так:
"Библия была написана лишь потому, что апостолы страшно нуждались".
- Не библия, а евангелие, - поправил Петров. - Нужна точность!
Забраковал он и две из встречавшихся в фельетоне фамилий - Тылкин и Полусмак.
- "Полу" уже использовалось, поэтому и плохо. А Тылкин - просто неприятно звучит... И выражение "бодрячковый мотив" тоже неприятно. Строже проверяйте себя на слух, на вкус!
- Относительно "бодрячкового" мы сами сомневались!
- И очень хорошо, что сомневались... Теперь вот тут есть у вас "Запевки фуражира". Фуражир - старое, забытое слово, а среди недавно введенных воинских званий имеется звание интенданта. Не лучше ли сделать "Запевки интенданта"?
Петров весело блеснул глазами и, вопросительно взглянув на меня, уже приготовился вписать своим карандашиком "интенданта". Но я запротестовал, я гордо заявил, что мы подумаем. Конечно, надо было послушаться Петрова, но мы по младости лет уперлись и вскоре напечатали фельетон в "Комсомолке", так и не заменив анахроничного "фуражира".
Остановился Евгений Петрович еще на двух-трех местах, отмеченных галочками, всякий раз замечая:
- Еще бы тут поработать! Еще!
- Мы стараемся... Мы очень медленно пишем, - сказал я.
- Вижу, что вы пишете добросовестно. Иначе бы и не разговаривал! Но для добросовестности нет пределов.
Прощаясь, Евгений Петров снова напомнил, что самый злой враг фельетониста - банальность, которой надо остерегаться пуще всего. Если встретится необходимость в его помощи, советах, Петров просил обращаться всегда, в любое время. И снова заметил я по лицу Петрова, что он очень утомлен.
Только теперь, больше двадцати лет спустя, узнал я, почему Евгений Петрович выглядел в тот день таким усталым. На сохранившихся у меня листках с записью всего сказанного Петровым есть и дата нашей встречи - 3 марта 1939 года. Накануне у Петрова родился сын. И вот после треволнений бессонной ночи этот человек все же пришел поговорить с молодым фельетонистом, опоздав лишь на пять минут и тут же извинившись!
A. PAСКИН
НАШ СТРОГИЙ УЧИТЕЛЬ
Я познакомился с Евгением Петровичем Петровым в 1937 году, в самом начале своей литературной работы. С первой же встречи он стал своеобразным литературным "шефом" для меня и для моего соавтора М. Слободского. Каждому начинающему литератору желаю я такого умного, доброжелательного и в то же время взыскательного, щедрого на критику и скупого на похвалу шефа.
Пять лет я регулярно встречался с Петровым в редакциях "Литературной газеты" и "Крокодила", несколько раз бывал у него дома. Я очень хорошо помню все эти встречи. Спешу оговориться - у меня нет никаких прав на высокое имя близкого друга этого замечательного человека и великолепного писателя. Я просто считаю своим долгом поделиться с читателем некоторыми воспоминаниями о нем, о том, как он работал с молодыми литераторами, как воспитывал в них уважение и любовь к своей профессии, к читателю, к товарищам по работе. Немало людей, и я в том числе, многим обязаны Петрову, его советам, его вкусу и темпераменту.