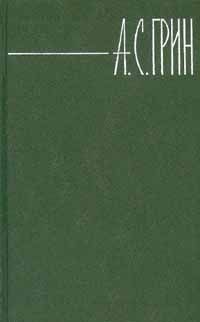Он только что вышел из пивной, грузный и охмелевший. Ноги скользили по тротуару, еще мокрому от весеннего дождя, и черная мгла пеленала улицу.
Вдруг, прямо против него, колыхаясь в неровном свете уличного фонаря, вынырнула женская тень. Она, должно быть, перешла дорогу, потому что появилась из мрака внезапно и тихо, как привидение. Петров суетливо посторонился, испуганный выражением ее гордого, заплаканного лица, а она прошла мимо, шурша шелковым платьем и медленно утопая в темноте высокой, стройной фигурой.
Это не была проститутка, а между тем шла одна ночью, в глухой части города, странной, нервной походкой, какая бывает у сильно возбужденных или испуганных людей. Одно-два мгновения Петров стоял неподвижно и потом мрачно двинулся вслед за женщиной, привлекаемый тайным соображением о печальных секретах и неожиданных приключениях, могущих дать, наконец, его жизни сильное и желанное течение.
Женщина шла быстро, не оглядываясь. Часто ее трепетная, легкая тень совершенно тонула в темноте, и только скрип шагов указывал фельдшеру нужное ему направление. Он стал размышлять, не следует ли подойти к ней, заговорить, но тут же испугался собственной мысли и решил просто идти до конца. В крайнем случае, могли подвернуться пьяные, оскорбить незнакомку, и его присутствие оказалось бы тогда как нельзя более кстати. Он уже размечтался и мысленно повторял еще не сказанные слова благодарности: — „Ах, я никогда не забуду этого“. — Казалось, он слышал нежный ласкающий тембр женского голоса и чувствовал в своей неловкой руке маленькую, нежную перчатку. Мысль, что он смешон, — не приходила ему в голову.
Волнение разрасталось — сентиментальное, самолюбивое волнение подвыпившего одинокого человека. Напрягая зрение и ускоряя шаги, Петров двигался по пустынной улице, обдумывая еще одно, полное благородства и достоинства соображение: проводить ее до подъезда того дома, куда она идет, и в самый последний момент остановить, сказав приблизительно, следующее:
— Прошу извинить за мою смелость, сударыня… Но вы были одни… глухое место… взволнованы… и я счел не лишним…
Она, конечно, должна понять его, если не с первого, то с пятого слова. Что же дальше? Ах, да! Легкое изумление, внимательная улыбка. Затем он выслушает ласковую благодарность и уйдет, так как больше ему ничего, решительно ничего не нужно.
Улица выходила на песчаный берег, загроможденный плотами, барками, полузарытыми в песок бревнами, лодками. Различные догадки, беспокоившие фельдшера, сразу исчезли, и на душе его стало покойно и даже весело. Уверенно и торопливо погружая в хрусткий сыпучий песок свои полуистоптанные ботинки, он побежал за неизвестной женщиной, стараясь нагнать ее раньше, чем она подойдет к длинным, черным плотам, забегавшим далеко на самую середину реки, как узкие, змеевидные отмели.
Мгла, висевшая над водой, отсвечивала стальную, серебристую гладь течения, и от этого все предметы, возвышавшиеся над берегом, рисовались отчетливо, как вырезанные из черной бумаги. Женщина ступила на плот и теперь почти бежала. Петров задыхался от возбуждения, усталые ноги тяжело и неверно попадали на скользкие выскочившие из скреп бревна, темная, невидимая вода колыхалась под ним, качая потревоженный плот. Маленькие бледные звезды горели в далеком небе, и печально посвистывали сонные кулики.
Он нагнал ее у самой воды и схватил за плечо прежде, чем она почувствовала его присутствие. Потом у него осталось воспоминание о руках, поднесенных к волосам, очевидно, с целью снять шляпу. Незнакомка испугалась и стояла молча, вздрагивая, с детским страхом в расширенных, больших глазах. Петров перевел дух и заговорил, страшно торопясь и комкая фразы:
— Я… вы… позвольте, я, кажется… Фельдшер Петров, сударыня… Сегодня такая ночь… Мне показалось, или… может быть… Простите… Если я ошибся, то… Во всяком случае… Если бы вы знали… Но… как хотите…
Волнение не помешало ему заметить, что женщина молода и красива. Голос его осекся, и он умолк, испугавшись ошибки и страшного стыда за это перед самим собой. Дама дышала глубоко и быстро, она поняла и теперь, быть может, досадовала. Но возбуждение, видимо, оставляло ее, спугнутое неподдельной тревогой добродушного, растерянного лица фельдшера. Она сказала только тихо и нерешительно:
— Уйдите…
Он понял или, вернее, по-своему растолковал, что значило это коротенькое, слабое слово. Это значило, что он здесь лишний, что он не может ничем помочь и суется не в свое дело. Петров постоял, не находя слов, трепеща от жалости к чужому горю, способному положить такой страшный и грубый конец. И тут, как почти всегда бывает в таких случаях, на помощь ему пришли слезы.
Она плакала судорожно и жалко, всхлипывая, как ребенок, и закрывая маленькими руками свое бледное, мокрое лицо. На шляпе ее вздрагивали и, казалось, плакали вместе с ней искусственные цветы. Но Петрову думалось, что она плачет не от осознанного ею в этот момент ужаса смерти и жизни, а оттого, что он, непрошеный и неловкий, грубо вошел в ее жизнь и помешал умереть.
Тогда то, что есть в каждом человеке и просыпается только в редкие и великие мгновения контрастов, глубоких размышлений или трепетных взрывов чувства, поднялось со дна души невзрачного фельдшера и развязало его волю. Маленький и сутулый, с взлизами на висках, он был велик в эти минуты в своих клетчатых брюках и люстриновом пиджаке. Торопливые, полные страстного убеждения слова, заимствованные из романов, но прочувствованные и лелеемые сердцем, сорвались с его губ. Начал он отрывисто и нескладно, но, постепенно захваченный постоянной, преследующей его мыслью, Петров чувствовал, как исчезает перегородка, естественно разделяющая двух незнакомых, чужих людей. Она сидела, еще всхлипывая тихим, прислушивающимся к его словам плачем; а он патетически взмахивал дешевой тросточкой, нервно расстегивая и застегивая свободной рукой верхнюю пуговицу пиджака. В голосе его были просьба и умиление, восторг перед бесконечностью жизни и собственное бессилие…
— Сударыня, — говорил он, — кто бы вы ни были, конечно… Я понимаю ваше отчаяние и все такое… Жизнь сложна, сударыня, и вот главное… На каждом шагу, быть может, нас ожидают тысячи радостей, а мы и не подозреваем этого… О! Мы способны из-за минутного разочарования, из-за неудачной любви разбить себе голову, но кто и чем вознаградит нас, если, может быть, следующий же час готовит нам как раз то, чего мы искали и не нашли? Нас ждали, может быть, радостные песни, а мы сыграли похоронный марш!.. Жизнь… жизнь, ведь это — поток, который уносит все, сударыня, все, а главное — горе… Какое бы оно ни было, сударыня, уверяю вас! Зачем же, зачем губить себя? Поверьте мне, поверьте, уверяю вас… Это — истина, не может быть иначе! Все проходит и все уходит!.. Да, вспомните Иова!.. Жизнь ведь это — мать, сударыня!.. Она ранит, она же и исцеляет… Какие неожиданные встречи, какие комбинации могут быть! Это правда, поверьте мне!.. Все в руках человека, зачем же…
Над плотами серела мгла, и ночь мчалась бесшумным, долгим полетом, скрывая мраком воду, небо, далекие черные суда и двух маленьких, слабых людей.
— Я устала, — сказала женщина. — Проводите меня. О, как я устала!..
Он шел за ней следом, сбоку, и все повторял, теперь уже печально и монотонно:
— Сударыня, поверьте мне! Подумайте только: ведь жизнь —…
Она улыбалась и думала про себя свое, известное только ей, изредка роняя рассеянные, короткие фразы:
— Вы думаете?
Или:
— Да, да. Я так устала!
Или:
— Да, конечно…
У ворот каменного двухэтажного дома они расстались… В руку его легла маленькая, упругая перчатка, и он услышал:
— До свидания!.. Вы были очень добры!
Придя домой, фельдшер зажег лампу и просидел до утра, бесконечное количество раз повторяя слова, сказанные там, на плоту. В момент возбуждения так ярко, так прекрасно было то, во что он верил: судьба — неожиданная капризная и ласковая. И так уныло глядела теперь из четырех углов его собственная одинокая скука.
Он подошел к стене. Маленькое зеркало безжалостно отразило сорокалетние морщины, лысину и заметное, мирно круглившееся, брюшко.
Потом, уже спустя много времени, кто-то пустил слух, что он отравился, заразившись скверной болезнью и потеряв надежду на выздоровление. Но это неверно. Опровержением служит собственноручно им оставленная записка, где сказано ясно и просто: „В смерти моей прошу никого не винить“.
Брат его, приехавший получить наследство, нашел немного: ситцевый диван, этажерку с книгами и набор врачебных инструментов. Это было все, что подарила Петрову жизнь».
Я узнал себя. Нет у меня никаких надежд, а умру я сейчас или после — все равно.
4 Журналист
Послушайте-ка, эй вы, двуногое мясо! Не желаете ли полпорции правды?