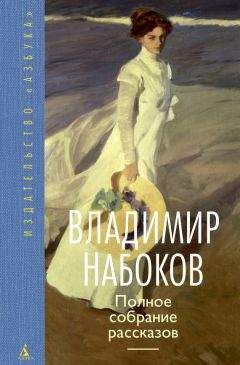Даже самое яркое воспоминание теряет свою живость, будучи выставленным напоказ, при изложении, как-будто дневной свет настоящего слегка засвечивает, затуманивает сохраненные в памяти, но непроявленные картины, рассматривавшиеся перед тем только в затемненной лаборатории, под безопасным светом уединенного созерцания. Лишь только частное воспоминание становится общим достоянием, обрываются кое-где его тонкие провода, соединяющие его с первообразом посредством промежуточных воспоминательных узлов, как бы трансляционных подстанций: случаев в прошлом, когда эти образы уже вызывались в памяти. В критическом месте последней главы, к которому я скоро перейду, N. намекает на эту именно опасность, когда признается, что если он и «восстановил в подробностях свои предыдущие впечатления» встреч с Пниным, то это не оттого, что он помнит первоначальные события этих встреч, но помнит, как однажды уже перебирал их в памяти в парижской кофейне в начале двадцатых годов, и теперь хочет только закрепить или подтвердить свои тогдашние воспоминания. Но закрепленное словами воспоминание, даже если слова эти такие, что лучше не подберешь, утрачивает сияние и тепло, а значит, и непосредственный допуск в прошлое{28}. Его достоверность тускнеет, как только и поскольку воспоминание находит выражение в слове. Подобранные мастером слова способны обвести, ретушировать, подрисовать, подкрасить и вообще оживить выцветшие воспоминания, но в сравнении с некогда красочным прототипом и в этом самом лучшем случае получается мастерски раскрашенный от руки дагерротип.
В шестой главе вернувшийся домой после вечеринки у Пнина Рой Тэер, который украдкой ведет дневник в рифмованных стихах, записывает следующие интересные строчки:
Мы сидели и пили, и каждый хранил
Память прошлого в тайне: у каждого был
Заведен на неведомый будущий час
Его участи частный будильник…
В английском подлиннике (где стихи эти записаны прозой) говорится, что прошлое заперто (locked up) в каждом. Если его отпереть, то самая его подлинность делается сомнительной, потому что время, доступное восприятию, есть самая скоропортящаяся вещь на свете.
Каждая глава «Пнина» представляет собою отдельный эпизод в пересказе N., и все они следуют приблизительно одному и тому же плану, которому в более мелком масштабе подчиняется и вся книга. В начале каждой главы мы находим Пнина в благодушном расположении, решительно не подозревающим о готовящемся для него испытании в виде неудачи или препятствия, или неожиданно несчастливого поворота судьбы, многочисленные предупредительные знаки которого он не замечает, хотя повествователь N. видит их отлично (и, может быть, сам и расставляет). Облака сгущаются, сцена темнеет, и тут случается какое-нибудь непредвиденное и болезненное происшествие, обычно ближе к концу главы (но никогда в самом конце). В конце же последнего, шестого эпизода этого как будто объективного изложения Пнин садится за письмо, начало которого, «позвольте мне подвести итог…», позволяет сделать замечательный по гладкости переход к последней, седьмой главе, где действительно не только подводится итог всему повествованию, но и пересматривается и перефразируется многое из сказанного ранее.
В седьмой главе N. вспоминает случаи, когда судьба сводила его с Пниным, предметом его повести в шести частях. В его рассказе оживает с изумительными подробностями первый такой случай, когда они гимназистами встретились в Петербурге; затем он нашел Пнина уже студентом, в имении своей балтийской тетушки, а затем несколько раз встречался с ним в эмиграции, в Европе и в Америке. Как-то раз в Париже N. решил позабавить Пнина и присутствующих необычайной ясностью и цепкостью своей памяти и рассказал два первых анекдота, «Посещение доктора Пнина» и «Libelei». Однако, к удивлению N. – подлинному или поддельному, другой вопрос, – Пнин «все отрицал», утверждая, что они никогда прежде не видали друг друга.
Нечего и говорить, что мы здесь сталкиваемся с дилеммой капитальной важности для всей причинно-следственной системы романа: сочинил ли N. эти истории? и если сочинил, то, может быть, и все прочие тоже? Или Пнин отказывается признать их потому, что он вообще «неохотно признает свое прошлое»?
И то и другое допущение содержит внутреннее противоречие, ибо и тому и другому можно как-будто противопоставить неотразимое психологическое свидетельство прямо из текста романа. Ведь даже если N. действительно «ужасный выдумщик», мистификатор, стряпающий забавные истории о знакомых ему людях для того только, чтобы похвалиться своей поразительной памятью и удовлетворить своему тщеславию, – даже если все это правда, то нельзя же допустить, чтобы он все это проделывал в присутствии самой жертвы своего вымысла, способного, конечно, тотчас обличить его и тем самым сделать самого выдумщика предметом общего недоумения или даже насмешки. Другими словами, даже если N. неисправимый краснобай, для чего он станет рисковать оказаться в этом случае в смешном положении уличенного враля?
Повествуя о первой их встрече, N. задается вопросом: «Да неужто я в самом деле помню его бобриком стриженную голову, чуть одутловатое, бледное лицо, красные уши?» – и отвечает без малейшего колебания: «Да, помню, и притом отчетливо». Неужели это всего лишь риторический прием или даже прямая ложь? Более того, позже в этой же главе Пнин сам как-будто ретуширует прошлое, когда вдруг выпаливает Баракану, сидящему за столом напротив и разговаривающему с N.: «Не верьте ни единому его слову, Георгий Арамович. Он все сочинил. Однажды он выдумал, будто мы в России учились в одной гимназии и списывали друг у друга на экзаменах. Он ужасный выдумщик». Утверждение тем более странное, что Баракан (еще один любовник Лизы до ее замужества, один из нескольких Георгиев, с которыми она сходится в продолжение книги) присутствовал при описанном выше происшествии в парижской кофейне, которое Пнин имеет в виду и во время которого N. ничего подобного не говорил, – напротив, он подчеркнул, что сам он учился в «более либеральной школе».
Но, с другой стороны, если истории N. правдивы, для чего Пнину отрицать их? Ведь ничего особенно обидного, кажется, нет в этой версии отрочества Пнина – ни в этой пятерке с минусом по алгебре, против которой он протестует, ни даже в эпизоде с пьесой Шницлера, несмотря на его очевидный прообразовательный смысл: нужно помнить, что их столкновение в Париже происходит еще до того, как N. сошелся с Лизою, будущей женой Пнина, и поэтому какая бы то ни было связь между ролью Пнина в домашней постановке «Libelei» Шницлера (ролью обманутого мужа, по словам N.) и его несчастным браком может быть установлена, только если двигаться против течения романного времени, что невозможно ни для Пнина, ни для N. Сверх того, нужно заметить, что Пнин не то чтобы отрицал версию N. начисто, но противопоставляет трем ее конкретным пунктам свои, тоже весьма конкретные, воспоминания. Он уверяет, что в гимназии всегда получал низкие баллы по алгебре, что его отец никогда не знакомил его со своими пациентами, и что в пьесе у него была другая роль (отца Кристины). Но самое удивительное его утверждение, повторим, то, что он никогда прежде с N. не встречался. В ясности памяти самого Пнина N. не только не позволяет усомниться, но сам подчеркивает и выставляет напоказ ее замечательную силу в каждой главе своего повествования{29}.
Что же это значит? Один напрашивающийся и оттого сомнительный и плоский ответ состоит в том, что в своем рассказе N. на каждом шагу замечает несходство своего первоклассного детства и буржуазного быта семьи Пнина и вообще склонен противополагать недостатки и невзгоды «бедного Пнина» своему избытку и счастью. Это особенно заметно в области английского языка, для Пнина являющегося коварным орудием трудоемкого, на каждом шагу чреватого недоразумениями общения с обитателями совершенно чужой ему страны, в то время как для N. – это богатейшее и чрезвычайно покладистое средство художественного выражения, позволяющее ему, между прочим, искусно передать историю первой любви Пнина, его несчастливого брака, его золотого сердца, его неуклюжего английского языка.
Но этот ход рассуждения, хотя и кажется на первый взгляд приемлемо-утешительным, не может привести к объяснению ни одного из серьезных противоречий, о которых говорилось выше. Как может N. настаивать, что они с Пниным дважды виделись, перед их парижским столкновением, когда Пнин это отрицает категорически? С какой стати Пнин обвиняет N. в том, что он выдумал, будто они учились в одной гимназии и даже списывали друг у друга на экзаменах, когда N. ничего подобного не говорил? Каким образом N. – персонаж книги, играющий роль ее повествователя, – имеет доступ к детским воспоминаниям Пнина, к его грустным размышлениям о смерти в университетском парке, даже к его снам? Наконец, психологически необъяснимо, отчего N. имеет невероятное в описанных им самим обстоятельствах право «опубликовать» эту книгу о Пнине, о его частных скорбях и задушевных мыслях и обо всем прочем – притом книгу, в которой ее герой не умирает (в отличие от практически всех других книг Набокова). На это можно, конечно, возразить, что «Мой бедный Пнин» есть в такой же степени плод созидательного воображения N., в какой весь Пнин, заключающий в себе и повествователя, и его повесть, есть создание Набокова. Такой взгляд приводит к головокружению, к тошнотворному и очень, в сущности, унылому ощущению итоговой пустоты, когда «все стремится по спирали в туманную относительность», так что N. становится по отношению к Пнину тем же, чем Красный Король был для Алисы{30}.