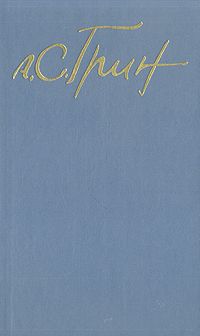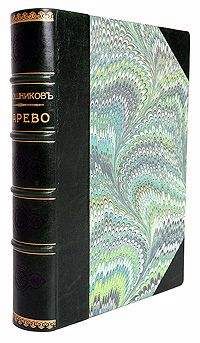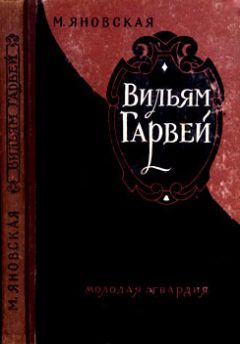— «Он мог бы быть более близок вам, дорогая Биче, — сказал Гектор Каваз, — если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть».
— «Нет, жизнь, — ответила молодая женщина, взглядывая на Каваза с доверием и улыбкой. — В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю — значит, не существует!»
— «Это сказано запальчиво!» — заметил Каваз.
— «Почему? — она искренне удивилась. — Мне хочется всегда быть только с тобой. Что может быть скромнее, дорогой доктор?»
— «Или грандиознее», — ответил я, соглашаясь с ней. У нее был небольшой жар — незначительная простуда. Я расстался под живым впечатлением ее личности — впечатлением неприкосновенности и приветливости. В Сан-Риоле я встретил Товаля, зашедшего ко мне; увидев мое имя в книге гостиницы, он, узнав, что я тот самый доктор Филатр, немедленно сообщил все о вас. Нужно ли говорить, что я тотчас собрался и поехал, бросив все дела колонии? Совершенно верно. Я стал забывать. Биче Каваз просила меня, если я вас встречу, передать вам ее письмо.
Он порылся в портфеле и извлек небольшой конверт, на котором стояло мое имя. Посмотрев на Дэзи, которая застенчиво и поспешно кивнула, я прочел письмо. Оно было в пять строчек: «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Каваз».
— Только-то… — сказала разочарованная Дэзи. — Я ожидала большего. — Она встала, ее лицо загорелось. — Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет и видит, — там, где хочет. И должно еще было быть: «Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет». — И вот это скажу я за всех: Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит, — дано всем; возьмите его! Я, Дэзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу: «Человека не понимают». Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь! Скажи нам: «Добрый вечер, Дэзи! Добрый вечер, Филатр! Добрый вечер, Гарвей!»
Ее лицо сияло, гневалось и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр, — так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся.
— Ну вот, — сказала Дэзи, усаживаясь и облегченно вздыхая, — добрый вечер и тебе, Фрези!
— Добрый вечер! — услышали мы с моря. — Добрый вечер, друзья! Не скучно ли вам на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу…
Автор посвящает эту книгу Нине Николаевне Грин
Рассудок тут бессилен, а потому не тратьте ваших доводов. Довольно будет сказать вам, что вопрос касается сердечных дел.
P. Стивенсон. Сент-Ив
Существует старинное гаданье на зеркалах: смотреть через зеркало в другое зеркало, поставленное напротив первого так, что они дают взаимное отражение — сияющий бесконечный коридор, уставленный параллельными рядами свечей. Гадающая девушка (так гадают только одни девушки) смотрит в тот коридор; что она там увидит — то, значит, с ней и случится.
Однажды, — было это весной, в половине двенадцатого часа вечера, — девушка Джесси Тренган забавлялась вышеописанным способом, сидя одна у себя в спальне. Она поставила против туалетного зеркала второе, зажгла две свечи и воззрилась в сверкающий туннель отражения.
Джесси Тренган через месяц должен был исполниться двадцать один год. Это была своенравная, веселая и добрая девушка. Описать ее наружность — дело нелегкое. Бесчисленные литературные попытки такого рода — лучшее тому доказательство. Еще никто не дал увидеть женщину с помощью чернил или типографской краски. Случается изредка различить явственно лоб, губы, глаза или догадаться, как выглядят за ухом волосы, но более того — никогда. Самые удачные иллюстрации только смущают; говоришь: «Да, она могла быть и такой», — но ваше скрученное или разбросанное впечатление всегда иное, хотя бы оно было бессильно дать точный образ. Переход к дальнейшему непоследователен, но необходим: у Джесси были темные волосы, красивое и открытое лицо, стройное и привлекательное телосложение. Ее профиль вызывал в душе образ втянутого дыханием к нижней губке лепестка, а фас был подобен звонкому и веселому «здравствуйте». В понятие красоты, по отношению к Джесси, природа вложила свет и тепло, давая простор лучшим чувствам всякого смотрящего на нее человека, за исключением одного: это была ее родная сестра, Моргиана Тренган, опекунша Джесси.
Сидя перед зеркалом с насмешливой, но довольной улыбкой, Джесси вдруг почувствовала стеснение; затем — раздражение и досаду. Так всегда действовала на нее всякая неожиданная помеха со стороны Моргианы.
Появясь в комнате, Моргиана сказала:
— О, Джесси! Как тебе не стыдно? Разве ты не изучила еще свое лицо?!
Джесси оторвалась от забавы, но не ответила по причине, которую мы тотчас поймем. Насколько хороша была младшая сестра, настолько же безобразна и неприятна была старшая. Но ее безобразие не возбуждало сострадания, так как холодная, терпкая острота светилась в ее узких, темно высматривающих глазах.
Среди некрасивых женских лиц огромное большинство их смягчено — подчас даже трогает — достоинством, покорностью, благородством или весельем. Ничего такого нельзя было сказать о Моргиане Тренган, с ее лицом врага; то было безобразие воинственное, знающее, изучившее себя так же тщательно, как изучает свои черты знаменитая актриса или кокотка. Моргиана была коротко острижена, ее большая голова казалась покрытой темной шерстью. Лишь среди преступников встречаются лица, подобные ее плоскому, скуластому лицу с тонкими губами и больным выражением рта; ее жалкие брови придавали тяжелому взгляду оттенок злого и беспомощного усилия. С тоской ожидал зритель улыбки на этом неприятном лице, и точно, — улыбка изменяла его: оно делалось ленивым и хитрым. Моргиана была угловата, широкоплеча, высока; все остальное — крупный шаг, большие, усеянные веснушками руки и торчащие уши — делало рассматривание этой фигуры занятием неловким и терпким. Она носила платья особо придуманного покроя: глухие и черствые, темного цвета, окончательно зачеркивающие ее пол и, в общем, напоминающие дурной сон.
Отец сестер умер четыре года тому назад; за год раньше умерла мать.
Джон Тренган был адвокатом, жил широко и не оставил наследства; Джесси получила большое наследство от дяди, брата отца, а Моргиана, — назначенная опекуншей сестры до ее совершеннолетия, — имела, по завещанию этому, небольшое поместье с каменным домом, названное «Зеленой флейтой»; весь остальной капитал — сорок пять тысяч фунтов и большой городской дом — принадлежал Джесси.
Против мрачной фигуры сестры шелковый японский халат Джесси был нестерпимым напоминанием о разнице между ними, а также — об их возрастах: тридцати пяти — Моргианы и двадцати — Джесси.
— Тебе нет нужды гадать о женихах, — продолжала Моргиана, наслаждаясь мрачностью девушки, — больше, чем надо, будет их у тебя. Джесси вспыхнула и резко толкнула зеркало, которое чуть не упало.
— Зачем ты издеваешься надо мной, Мори? Мне рассказала горничная, что есть такое гаданье. Я забавляюсь. Почему это тебя так злит?
— Да, злит, и будет всегда злить, — ответила Моргиана с откровенностью постороннего человека в отношении себя самой. — Посмотри на меня, а затем обратись к своему любимому зеркалу. Такой урод, как я, обязан раздражаться, видя твое лицо.
— Разве я виновата, Мори? — с упреком произнесла девушка, и ей стало жалко сестру. — Представь, я так привыкла к тебе, что не знаю даже, хороша ты или дурна!
— Я дурна. Безжалостно, безобразно дурна.
— Зачем ты меня так ненавидишь? — вскричала Джесси, с отчаянием всматриваясь в пристальные глаза Моргианы. — Уже давно мучаешь ты меня такими сценами. Я не знаю, не знаю, почему мы с тобой родились такими разными! Поверь, я часто плачу, когда вспоминаю о тебе и твоих страданиях!
— Я ненавижу тебя, — тихо ответила Моргиана, с ревностью изучая взволнованное лицо сестры, которому игра чувств придала еще большую прелесть. — Я тебя очень люблю, Джесси. Люблю тебя внутреннюю. Но наряд твой, праздник твоего лица и красивого, стройного тела, — мне более чем ненавистен. Я хотела бы, чтобы от тебя остался один голос; тогда и мои слова были бы так же нежны, так же искренни и натуральны, как твоя детская речь.