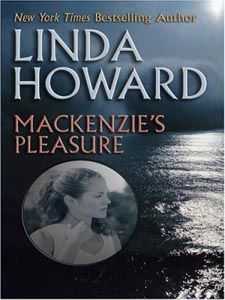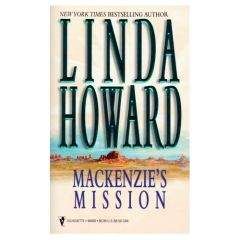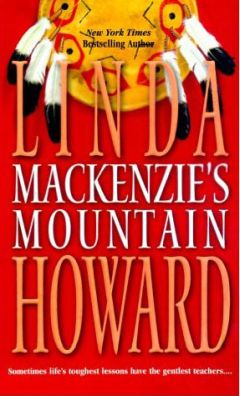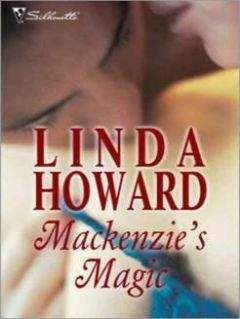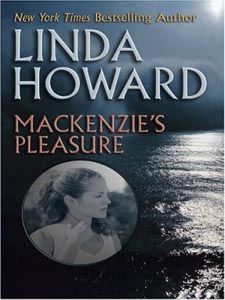слишком крупные костяшки, будто на вырост. На краткий чудесный миг я поддаюсь безумию, что поэты нарекли любовью, мне хочется взять его ладони в свои: в конце концов, он медленно и мучительно ведет ногой вверх по моей, что это, если не приглашение? Но, не успеваю я решиться, Перси вдруг, нахмурившись, заглядывает под стол.
– Это что, была твоя нога?
– Где?
Перси отнимает ботинок от моей икры.
– Я-то думал, это стул. Прости. Слушай, почему ты сразу-то не сказал?
Не успеваю я ответить, по столу что-то хлопает. Мы вздрагиваем. Это Фелисити швырнула между нами свою книгу по алхимии и стоит, положив ладони на обложку и опираясь на них прямыми руками.
– Уже все прочитала? – спрашивает Перси. Стоило мне на секунду отвести взгляд, он уже запрятал свои прекрасные руки под стол.
– Пролистала, – отвечает она. – Что-то я уже на лекции слышала. Насколько я вижу, все научно достоверно, хотя я часто слышала, что ошибочность алхимии вот-вот докажут. В этой книге в основном кратко описываются принципы очищения предметов и возвращения их в идеальное состояние. Но в конце есть главка… на самом деле даже не главка, а почти что сноска – про синтетические панацеи.
– И что это значит? – спрашиваю я.
– Одна из главных задач алхимии – создать такой предмет или состав, который излечивал бы любые хвори и возвращал телу идеальное состояние, – объясняет Фелисити. – Универсальной панацеи пока что не существует: как правило, панацеями называют растения или предметы, которые служат противоядиями от множества ядов.
– Например, те ампулы в кабинете Данте, – вспоминает Перси.
– Ага. Но, похоже, Матеу Роблес перед смертью в основном занимался созданием универсальной панацеи, которая бы синтезировалась внутри человеческого сердца.
– Это как? – спрашиваю я.
– По его теории, предыдущие попытки создать панацею провалились потому, что им не хватало жизни. Он предположил, что, если в бьющемся сердце произвести определенную реакцию, оно превратится в своего рода философский камень, и тогда кровь, которую оно качает, станет лекарством от всех болезней.
Я запускаю пальцы в волосы; несколько прядей выбиваются из косы. Я надеялся, что панацея будет просто жидкостью во флакончике, а тут – бьющееся сердце, кровеносные сосуды…
– А что, если его эксперимент удался? – спрашивает Перси. – Что, если в шкатулке лежит какое-то указание, как найти это сердце, – или что-то, с помощью чего его можно изготовить. Наверно, за чем-то таким герцог и охотится.
– Мне кажется, ни один человек, особенно замешанный во столько политических интриг разом, не должен получать доступ к подобным вещам, – говорит Фелисити, смотрит на меня и хмурится: – Чего ты гримасу скорчил?
– Я? Гримасу?
– У тебя на лице написано глубокое отвращение.
– Да просто представил, сколько там крови. – Я едва не содрогаюсь. – Тебе самой не противно?
– Дамы не могут себе позволить бояться крови, – отвечает Фелисити, и мы с Перси дружно алеем щеками.
18
В пятницу вечером мы отправляемся в оперу: утром за завтраком Элена нам об этом напоминает, и Данте едва не падает в обморок. Похоже, он давно уже не выходил из дома и хотел бы сидеть взаперти и дальше.
У нас нет подходящей к случаю одежды. Данте одалживает Перси бордовый костюм: в рукавах он сильно короток, но у них похожее телосложение и сидит он неплохо. Мне достаются черные шелковые брюки и изумрудный камзол. Я едва в нем не тону, но это единственный наряд, который не волочится по полу и не слишком свободен в рукавах. Их, правда, все равно приходится закатать. Дважды.
– Он принадлежал моему отцу, – сообщает Данте, словно не понимая, как тревожно мне будет в одежде мертвеца.
Когда я, наконец оставив попытки уговорить свои плечи чуть раздаться вширь, захожу в нашу спальню, Перси, еще не переодевшийся, сидит на кровати, поджав под себя ногу и зажимая плечом и подбородком скрипку. Перед ним разложены потрепанные нотные листы.
– Это все написал Матеу Роблес? – спрашиваю я.
Перси кивает – скрипка подпрыгивает.
– Не так-то просто оказалось транспонировать для скрипки. Написано-то для кристаллофона. И запись очень старинная.
– Сыграй мне.
Перси крутит в руках кончик смычка, потом ставит на него пальцы и играет первую строчку пьесы. Звучит как-то очень нудно, бегло и вылизанно, но вдруг палец Перси соскальзывает, и струны визжат. Он, нахмурившись, выдергивает скрипку из-под подбородка и переигрывает последний такт, дергая струны, а не гладя, то в одном темпе, то в другом.
– Как красиво, – замечаю я.
Перси тыкает меня смычком в живот, я со смешком отпрыгиваю.
– Ты невыносим.
– Как эта пьеса называется?
Перси, прищурившись, читает название:
– Vanitas Vanitatum [19], – и хмурит лоб. – Ого. Та самая.
– Что значит «та самая»?
– Про нее Данте говорил. Та самая пьеса, которой можно призвать духов умерших.
– Решил вызвать душу Матеу Роблеса? Похоже, никто другой в этом доме нам про его труды не расскажет.
Перси кладет скрипку на кровать и тянется к висящей на спинке чистой рубашке, по пути вылезая из рукава своей.
– Сколько там до выхода?
– Ой, не помню, – отвечаю я, изо всех сил стараясь не смотреть, как он стягивает рубашку. – Внизу подожду, ладно?
Подхватываю у двери свою обувь и сбегаю. Еще не хватало лишний раз бередить себе душу видом полуголого Перси. Он и одетый меня с ума сводит.
Данте, похоже, планировал пересидеть наш уход на втором этаже, чтобы мы про него забыли, а Элена без прислуги, наверно, еще долго будет прихорашиваться – я рассчитываю, что спустился первым. Дверь кабинета закрыта, и я замираю перед ней, гадая: рискнуть войти или не надо?
Мои пальцы уже смыкаются на ручке, когда из-за двери раздается визгливый, капризный голос Данте. Я едва не подпрыгиваю до самого потолка.
– Зачем мы их здесь держим? – возмущается он.
– Надо выждать… – отвечает Элена, но конец фразы заглушают звуки скрипки: Перси наверху решил еще поиграть. С какой радостью я бы сейчас швырнул в него чем-нибудь прямо сквозь пол! Я прижимаюсь ухом к двери и обращаюсь в слух.
– Может, их… можно как-то убедить. Чтобы молчали. Или им она не нужна.
– Ты сам видел, именно она им и нужна.
– Мне кажется, они поймут. Такие разумные молодые люди.
– Ты еще не заметил, как часто разумные на вид люди оказываются совсем другими? – Что-то, позвякивая, пересыпается, как будто кто-то потянул за нитку жемчужного ожерелья. – Поговори с ним сегодня же. У нас мало времени.
– А если его там…
– Да там он, куда денется. Он всегда играет с судьями.
– Тогда давай ты…
– Со мной он говорить больше не желает. Я ему уже надоела своими просьбами. Остаешься ты.
– Но… я не…
– Данте, прошу тебя. Если бы он только был рядом…
Что-то шуршит. Данте что-то неразборчиво бормочет.
– Ты что, так и позволишь ему там сгнить, не испробовав все средства? – шипит Элена. – Мы не дадим им уехать, пока…
Вдруг дверь выдергивают из-под моего уха, и я едва не лечу лицом прямо Элене между грудей. Это было бы верхом непристойности, быть может, все бы даже