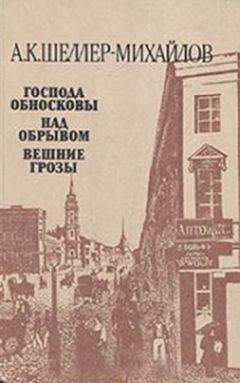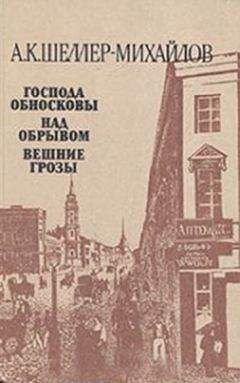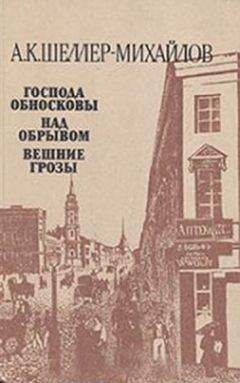Когда Протасова очнулась от тяжелых дум, ее лицо было влажно от слез и серьезно. Впервые в этот день у этой постели она передумала многое о любви, передумала глубоко и серьезно, смотря на эту несчастную жертву необузданной, неосмысленной страсти. «Бога забыла для него», звучали в ее ушах слова Поли. Ей стало жутко. Неужели и она любит его такою же любовью? Неужели и она для него забудет бога — бога правды, добра, справедливости, чести, любви к ближним? Но разве он этого когда-нибудь потребует? Разве он может этого потребовать? Нет, нет, никогда!.. Он честный и добрый человек, он может вести ближнего только к добру и правде! Поля тихо вздохнула во сне. Марья Николаевна вздрогнула, и ее охватило тяжелое чувство, точно ее кто-то уличил в чем-то постыдном. «У постели умирающей думаю об отнятии у нее любимого ею человека, всего, что ей дорого в жизни», пронеслось в ее голове. «И умирает, быть может, только от того, что я стала на ее дороге», с горечью продолжала она думать. Сколько бессознательного эгоизма, сколько легкомыслия было в ее поведении. Ей вспомнились все мелочи ее недавнего прошлого: ее постоянные посещения Егора Александровича, просиживанье с ним до ночи, прогулки с ним. Как должна была терзаться Поля в эти минуты. У нее ведь не было в жизни ничего: ни друзей, ни богатства, ни бога, ничего, кроме одного любимого человека. И его-то отнимала, вырывала у нее из рук она, Марья Николаевна, неумышленно, бессознательно, — но разве это было не все равно для бедной девушки?.. А он? Неужели он не понимал этого? Зачем он не предупредил ее, Марью Николаевну? Или он, как мужчина, не замечал ничего, что делалось в простом женском сердце?..
Где-то пробили часы и напомнили Протасовой, что ей пора идти.
Она устало поднялась с места. Она была бледна и серьезна, когда вышла из спальни Поли в гостиную, где Егор Александрович задумчиво ходил взад и вперед по комнате. Увидав Марью Николаевну, он остановился.
— Что?
— Уснула!
На мгновенье оба смолкли.
— Много она перестрадала, — тихо сказала Марья Николаевна.
Он сдвинул брови, ничего не ответил ей. Она заторопилась, отыскивая свою верхнюю одежду.
— Вы уходите? — спросил он.
— Да. Пора!.. Да, кстати, нужно вам сказать, — начала Марья Николаевна и вдруг остановилась.
— Что? — спросил он.
— Забыла… Ах, какая память!.. Ну, потом! — ответила она в замешательстве.
Ей хотелось передать, что Поля просила его не заходить к ней, но при одной мысли об этом на ее щеках выступил румянец. Ей стало стыдно, точно она хотела передать ему не желание Поли, а свое желание — желание отстранить его от умирающей. В невольном, плохо замаскированном смущении Протасова наскоро протянула ему руку. Он хотел ее спросить, когда она придет, но, вместо этого вопроса, проговорил:
— Спасибо вам за все последние дни!.. Я этого никогда не забуду…
Она пробормотала в ответ что-то неясное, сбивчивое.
Они пожали друг другу руки и простились, как почему-то показалось обоим, надолго, может быть, навсегда…
В жизни бывают дни, недели, месяцы, стоящие многих и многих лет. Они похожи на страшные бури во время путешествия по морю. Вы совершаете морское путешествие, дни сменяются днями, ничем не отмеченные, однообразные, продолжительные и, все-таки, забываемые бесследно, не оставляющие в душе ничего; но вот начинается буря, все приходит в смятение, раздается вой и свист в мачтах, холодные брызги разбивающихся о бока корабля волн обдают палубу, где-то слышится треск, точно судно расходится в пазах, кого-то снесло в море налетевшей волной, каждая минута грозит смертью, и вы, объятые страхом, переживаете в эти минуты целые годы, готовясь к смерти. Если не все молятся в эти минуты, то едва ли кто-нибудь в эти минуты не останавливается в страхе перед вопросами о прошлом и о будущем; в несколько мгновений переживаются душою целые годы. Такие дни пережил Егор Александрович во время болезни и выздоровления Поли. Он не анализировал, не мог анализировать своих чувств к ней; он не спрашивал себя, насколько он ее любит, насколько любил ее, насколько дорожит ею. Он просто видел перед собою глухие страдания существа, которое его страстно любит: эти ввалившиеся глаза следили за ним еще недавно с таким обожанием, эти сухие, синеющие губы шептали ему чуть не вчера слова беспредельной любви, эти исхудалые руки ласкали его чуть еще не накануне, обвиваясь вокруг его шеи. И он за все это не дал, не мог ей ничего дать, кроме несчастия. И если бы хоть упрек сорвался с ее губ, он пробудил бы, может быть, реакцию в душевном настроении, вызвал бы желание оправдаться, защититься, высказать свои обвинения. Но она лежала перед ним с полупотухшими, кроткими глазами, как подстреленная им птица. Эти глаза выражали не жалобу, не упрек; они просто говорили: «Ну, вот видишь, я и умираю!» Это сравнение Поли с подстреленной птицей не выходило из его головы, проносилось в уме не мыслью, а образом, доводило чуть не до слез.
— Поля, милая, тебе лучше? — говорил он мягким голосом на другой день после исповеди.
— Лучше! — прошептала она бесстрастно.
Он взял ее руку и хотел поднести ее к своим губам. Она слабо отдернула ее.
— Не надо, Егор Александрович!.. — сказала она. — Не надо!
В ее голосе было что-то такое, точно она хотела защититься, просила пощады. Это был тон измучившейся в пытке страдалицы, чувствующей, что вот-вот сейчас коснутся до ее еще не заживших ран.
— Все теперь кончено, — проговорила она. — Все!.. Грех великий я совершила… Теперь каяться должна, молиться должна…
— Не мучай ты себя этим! Вот выздоровеешь, все пойдет по-старому…
— Нет, нет! Что вы! Что вы! — с испугом, с ужасом проговорила она. — А бог-то? Бог?
— Он же видит твою душу, он…
Она перебила его опять почти с ужасом, широко раскрыв мутные глаза:
— Да, видит мою душу!.. Окаянная я, грех совершила, неискупимый грех, каяться должна, а я… Не о грехе думаю, о любви своей думаю!.. Господи, и тяжело же мне, сердце разрывается!..
Она закрыла лицо руками.
— Уж лучше бы вы меня бросили, прогнали!..
— Поля!
— Да, да, пошла бы я, брошенная, проклятая, а теперь…
Она обратила к нему молящий взор…
— Голубчик, родной, уйдите, уйдите вы от меня!.. Не вольна я в себе… сил у меня нет… Смотрю на вас — и нет бога во мне, думаю о вас — и грех забыт, и покаяния нет!.. Убить, убить бы меня мало за мое окаянство!.. А бог все видит!..
Он поднялся с места.
— Вы на меня не сердитесь! Не от злобы я гоню вас… Видит бог, нет!.. Душу, душу свою я спасти должна!
Она протянула свою руку, чтобы взять его руку, и тотчас же опустила ее, испуганно заметив ему:
— Нет, нет, не надо… Идите!..
Она, как и отец Иван, понимала только бога-судию, бога-мстителя.
Он вышел из ее спальни подавленный, растерянный, не зная, что делать, чего желать. Он сознавал, что какая-то пропасть открывается между ним и этой девушкой: он не поймет ее, она не поймет его. «Уехать бы, бежать бы отсюда», мелькало в его голове, а другой голос подсказывал ему: «И дать ей умереть в обществе грубой, полупьяной дворни?» Нет, нужно было остаться до конца здесь, у постели этой больной, покорно ожидая, к какому исходу приведет судьба. Бежать легко, трудно было остаться, — значит нужно было остаться; нужно было пережить и это испытание. Он брался за книги, развертывал их и по целому часу читал одну и ту же страницу, ничего не понимая.
— Господи, вас-то я за что мучу, — говорила Поля, когда он заходил к ней.
— Чем же ты меня мучишь? — отвечал Егор Александрович. — Ведь я все равно здесь бы жил и без тебя. Я работаю.
— Исхудали! Краше в гроб кладут! Все из-за меня, все из-за меня!
Он спешил переменить разговор…
Это повторялось каждый день, при каждом посещении им ее спальни…
В один из ясных октябрьских дней он, сидя в гостиной, заслышал скрип двери из комнаты Поли. Он обернулся. В дверях, держась за косяк, стояла Поля. Он вскочил с места.
— Вот и я…поправилась, — сказала она обрывающимся голосом, силясь улыбнуться обтянувшимися губами.
Она точно встала из гроба, худая, бледная, вся в белом.
— Голубка, можно ли так рисковать! Ты еще очень слаба!
— Нет, я поправилась!.. Теперь… в монастырь похлопочите, чтобы приняли… Я совсем оправилась… Пора!
Она сделала несколько шагов от двери, спотыкаясь, шатаясь, бессознательно протягивая руки, чтобы ухватиться за что-нибудь. Он поспешил к ней, видя, что под нею подламываются ноги. Почти рыдая, она опустилась к нему на руки.
— Не могу, не могу! — воскликнула она надрывающимся голосом. — Ах, я несчастная, несчастная!.. Истерзаю я, измучу вас в конец. Хоть бы умереть!..
У нее повисли руки, голова опустилась на грудь. Он отнес ее как ребенка в спальню и положил на постель. Она полузакрыла бледные глаза и снова лежала перед ним с выражением подстреленной птицы. Ее нельзя было ни утещать, ни ласкать, ни журить. Нужно было молча ждать неведомого конца…