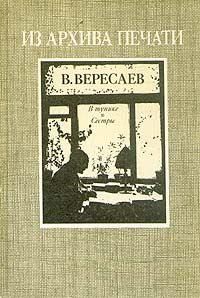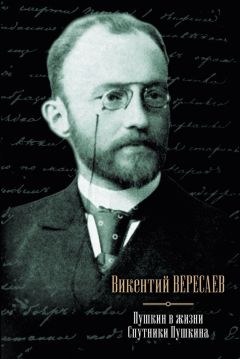– Ты-то погибаешь? Барином живешь, все на меня свалил. Ну, что ж делать, придется мне и абрикосы поливать.
– Ну, да послушай же, наконец, Лидочка! Сообрази хоть немножко…
– Ах, оставь! Все, все на меня рад свалить! Клещом каким-то, паразитом настоящим впился в меня и сосет все силы, все соки… Да еще зудит с утра до вечера. О, жизнь проклятая!
Четыре подводы перед кофейнею. Деревенские парни с красными от вина лицами. Заливались гармоники.
Катя спросила:
– Вы – мобилизованные?
Парень, с свесившимися через грядку сапогами, ответил с усмешкою:
– Ну да, значит, – мобилизованные.
– Воевать едете?
– Нет, не воевать.
– А что же?
Парень помолчал.
– Мир вам привезти.
– Как же это?
– А вот так. Будет воевать, надоело. Через месяц придем к вам назад с красными флагами и вот этак мир вам принесем. – Он расставил ладони, как будто держал в них большой, хрупкий шар. – И будет спокойствие.
– Я не пойму. К большевикам перейдете?
– Зачем? Нет. А просто, значит, принесем мир. Чего нам воевать со своими? Вот у меня двух братьев большевики взяли, с собою угнали, а меня сюда гонят. И у всех так. Кому эта война нужна? Просто, сговоримся и уйдем.
В один ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени всползали на выбегающие мысы, и, в преднощной дремоте, с тихим плеском ложились волны на теплый песок, – Иван Ильич лежал на террасе, а возле него сидела Катя, плакала и жалующимся, детским голосом говорила:
– Мне больше не хочется жить! Зачем? Опять в этой разоренной дырке сколачивать щепочку со щепочкой, кур разводить, кормить поросенка… Не хочу! Из-за чего биться, из-за чего выматывать силы?
Иван Ильич ясными глазами смотрел на тускневшее, жемчужное море. Он медленно сказал:
– Жить хорошо, когда впереди крепкая цель, а так… Жизнь изжита, впереди – ничего. Революция превратилась в грязь. Те ли одолеют, другие ли, – и победа не радостна, и поражение не горько. Ешь собака собаку, а последнюю черт съест. И еще чернее реакция придет, чем прежде.
– Господи, как я устала! Наверно, так земля устанет в свой последний день!
Иван Ильич положил исхудалую руку на ее руку, загрубевшую и загорелую, тихо улыбнулся и вдруг сказал:
– Давай умрем.
Катя вздрогнула, выпрямилась и впилась глазами в его глаза.
– Убить себя? – Она вскочила. – У меня мелькала эта мысль… Нет, ни за что! Сдаться, убежать! Забиться в угол и там умереть, как отравленная крыса!.. Ни за что! Какая скупость к жизни, какая убогость!.. Нет, я хочу умереть, но чтоб бороться! Пусть меня пилами режут пополам, пусть сдирают кожу, но только, чтоб не было бегства!
Иван Ильич тихонько плакал и целовал ее руку.
– А за что бороться… Девочка моя, как я тебе завидую! Если бы я был молод!
Она в ответ целовала его седую, растрепанную голову, и слезы лились по щекам.
– Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, – ничего, ничего это никому не нужно!
И Катя увидела, – ясный свет был в глазах Ивана Ильича, и все лицо светилось, как у Веры в последний день.
Гуще становились сумерки. Зеленая вечерняя звезда ярко горела меж скал. Особенная, редкая тишина лежала над поселком, и четко слышен был лай собачонки на деревне. Они долго сидели вместе, пожимали друг другу руки и молчали. Иван Ильич пошел спать. Катя тоже легла, но не могла заснуть. Душа металась, и тосковала, и беззвучно плакала.
Катя встала, на голое тело надела легкое платье из чадры и босиком вышла в сад. Тихо было и сухо, мягкий воздух ласково приникал к голым рукам и плечам. Как тихо! Как тихо!.. Месяц закрылся небольшим облачком, долина оделась сумраком, а горы кругом светились голубовато-серебристым светом. Вдали ярко забелела стена дачи, – одной, потом другой. Опять осветилась долина и засияла тем же сухим, серебристым светом, а тень уходила через горы вдаль. В черных кустах сирени трещали сверчки.
Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка, неизвестно куда.
Впервые отрывки из романа опубликованы в "Южном альманахе", Симферополь, 1922, кн. 1; в журналах: "Красная новь", 1922, ЉЉ 4, 5; "Петроград", 1923, Љ 1; "На вахте", Грозный, 1924, Љ 6; в сб. "Революционная проза", Љ 1, Киев, 1924. Полностью – в кн.: "Недра". Литературно-художественные сборники. М., 1923, кн. 1 и 2; 1924, кн. 3. Написано в 1920 – 1923 годах.
Работе В.Вересаева над крупными произведениями обычно предшествовали многолетние размышления, находившие отражение либо в дневниковых записях, либо в его очерках и публицистике. Так было и с романом "В тупике". Через несколько месяцев после Февральской революции 1917 года писатель выпустил почти одновременно три небольшие брошюры – "Бей его! (О самосудах)", "Наплевать! (Борьба за право)", "Темный пожар (О свободе слова)". В них намечены многие мотивы будущего романа. Сочувствуя развернувшимся революционным событиям, помогая им не только словом, но и делом как председатель художественно-просветительной комиссии при Московском совете рабочих депутатов, В.Вересаев вместе с тем был очень обеспокоен, что свободу "темная часть народа поняла так: всякий делай, что хочешь, законов никаких не надо исполнять. Такое мнение очень опасно для свободы и революции". Прокатившаяся по Москве волна самосудов толпы чревата, по мнению писателя, самыми опасными последствиями. "…Жизнь человеческая – вещь драгоценная, и к ней нужно относиться очень бережно". "Пролитая кровь" "начинает пьянить голову", "пятнает и калечит" людям толпы "душу совсем так же, как всякому палачу" ("Бей его!")
Без законов, без твердого права нет и не может быть демократического государства. Это – первейшая забота революции. "Трудно жить в стране, где люди вяло и равнодушно смотрят на попрание своих прав" ("Наплевать!").
Закон должен запрещать бесправие, но не душить свободу, так как она обязательное условие истинного человеческого существования. "Свободный гражданин понимает, как необходима для страны свобода слова, он всеми силами стоит за эту свободу и не позволяет нарушать ее, даже когда запрещают говорить то, чему сам он не сочувствует. Он понимает, что, если сегодня запрещают говорить другому, то завтра могут запретить говорить и ему самому. Поэтому он требует, чтобы всякий имел право говорить то, что он думает. Этим-то именно гражданин свободной страны и отличается от жителя страны рабской. Всякий раб, конечно, желает свободы слова для себя и для тех мыслей, которым он сочувствует. Но раз сам он почует за собою силу, то сейчас же начинает преследовать других за неприятные ему мысли с такою же свирепостью, с какою раньше другие преследовали его самого. Приходится признать, что мы в России еще очень плохо понимаем настоящую свободу слова. Мы то и дело грубо нарушаем ее и даже сами не замечаем этого и воображаем, что стоим за свободу… Мы слишком еще рабы… Зачинается на Руси темный подземный пожар, – пожар злобной ненависти ко всякому чужому мнению: люди стремятся зажать друг другу рот, скрутить, сократить, не дать пикнуть… С этим пожаром необходимо дружно бороться…" ("Темный пожар").
Потребовалось три года, чтобы эти мысли писателя начали принимать форму романа. В.Вересаев приступил к работе над ним в Крыму, где жил с сентября 1918 г. по октябрь 1921 г. на своей даче в Коктебеле, недалеко от Феодосии. По свидетельству писателя, в романе нашли отражение события Гражданской войны, которые он наблюдал тогда в Крыму. Арматлук – это Коктебель; изображенный в романе город – Феодосия. Многие персонажи имели реальных прототипов. Так, В.М.Нольде, племянница и литературный секретарь В.Вересаева, свидетельствует: "Катя напоминает Наташу из повести "Без дороги", может быть потому, что прототипом и той, и другой героини в значительной степени была Мария Гермогеновна – жена писателя" (В.М.Нольде "Вересаев", Тула, 1986, стр. 131). Об Н.А.Марксе, многие черты которого воспроизведены в образе академика Дмитревского, упоминалось в предисловии к настоящему тому. Прототипом пианистки Гуриенко-Домашевской была артистка Московского Большого театра М.А.Дейша-Сионицкая, имевшая дачу в Коктебеле.
О жизни В.Вересаева в Крыму так вспоминал И.Эренбург: "…Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика… В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк… Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный предмет – ночная рубашка доктора Козинцева, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных… Я с ним подолгу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный, а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против белогвардейцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не принимал. Потом я прочитал его роман "В тупике", где он рассказывал о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого-демократа, то его дочки-большевички". (И.Г.Эренбург. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, М., 1966, стр. 306 – 307).