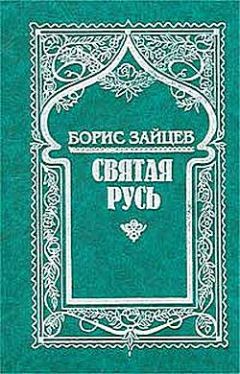– Хотите, – произнесла я негромко, – я поцелую вам руку?
Я бы сделала это легко и с благоговением. Любви все можно.
Он не ответил. В его влажных глазах, сияющих, я прочла ту же любовь.
Стало тихо. Мы опять очутились в той гостиной и сидели на диване, как влюбленные.
– Все последнее время я страдал. Потому что мы мало любили друг друга. А сегодня в особенности было мне плохо. Я не мог найти себе места, весь день. Почему я попал сюда? Кто меня подтолкнул? Как я счастлив!
– Это любовь, – она нас соединила. Думала ли я попасть сюда и…
– Что?
– Встретить тебя, такого…
– Да, как неожиданно! Как прекрасно!
Больше мы почти и не говорили. Когда очень любишь, то можно, прижавшись щекой к щеке, читать все в любимой душе.
Показалась Маруся. Она шла под руку и, видимо, сама хотела сесть в этой же комнате. Мы встали. Она всплеснула руками.
– Бог ты мой!
– Вы чего удивляетесь? – Андрей счастливо смеялся. – Почему мы не можем сидеть вместе!
– Да давно не видала, признаюсь! Ай да Наташа.
Она познакомила нас; вчетвером, сияющие, мы болтали.
Потом в киоске пили шампанское, и чокались бокалами крест-накрест.
– Свадьба, – закричала Маруся, – кто ж выходит замуж?
С Андреем я чокнулась робко, как с женихом.
– Ну что, – мигнула мне Маруся, – maman, можно мне еще кадриль?
В кадрили мы были визави, а потом вместе уезжали. Бал кончался. Садясь в санки с Андреем, я увидела, как Маруся садится тоже со своим. Я не выдержала. Как в хмелю выскочила я из саней, потеряла ботик и в туфельке пробежала по снегу, обняла ее. Я поцеловала ее крепко, восторженно, как целуют гимназистки. Через минуту мы неслись уже в разные стороны. Андрей держал меня крепко, справа бежала за нами луна, сопровождая снова наш бег. Все улицы, люди, город казались мне теперь иными, завороженными любовью.
И прибавить я могу только то, что вся эта ночь, дома, которую мы провели с Андреем, осталась в моей памяти таким же блистательным сновидением, каким была встреча и вальс.
Да, среди невзгод и скорбей жизнь дарит нам иногда незабываемые мгновения. Верно, когда придет наш конец, мы вспомним о них. И если скажем: девять десятых пропало, но одна сотая вечна – то и за нее мы умрем покойно.
Да будет благословенна любовь.
<1909>
I
Поезд замедлял ход: станция. Анна Михайловна вышла. Почему-то стояли долго, она ходила по платформе, дышала чудесным осенним воздухом. Солнце садилось. Ели были залиты золотом, что-то крепкое, вечное было в пейзаже. Ей пришла мысль о будущем. Начинается сезон, что принесет ей этот год? Радость, удачу, огорченья? Она взглянула на белоруса, отъезжавшего куда-то в свои дебри. «Здесь ничего этого нет. Живут малые люди, умирают, родятся, так же незаметно, как те бедные мушки, что танцуют на солнце». Тут она погибла б.
И, вернувшись в купе, она снова погрузилась в мечтательное настроение, вызываемое ездой. Сумерки засинели; скоро показался чистый, бледный месяц. Его свет понемногу означился, лег воздушным кружевом по дивану; цветы на столике благоухали. Анна Михайловна улыбалась– ей мерещился кто-то, кого нет на самом деле и кого она назвала «милый друг». Это его черты в нежном месяце, в цветах. Любовь к нему была бы так прекрасна! Вечная, чистая любовь. Анна Михайловна вспомнила Эмму, которая любит ее трогательно и бескорыстно – и теперь ждет ее, – и усмехнулась. Эмма! Нет, милый друг не таков.
Так она заснула, а когда проснулась, было утро. Встала она бодрой и веселой. Все казалось ей ясным, она здорова, крепка, талантлива; будет работать так же твердо, как раньше, – остальное не в ее власти. И когда поезд подходил к столице, туманно блеснул в солнце купол Исаакия, она радостно вздрогнула: скоро!
На перроне встретила ее Эмма.
– Задушишь, сумасшедшая! – смеялась Анна Михайловна. – Ну как ты, как живешь?
– Я что! Я о тебе только думала – все время, без конца.
Эмма блестела глазками, вспыхивала.
– Я уж тут как старалась, чтобы угодить тебе. Квартиру наняла – восторг. Твоя комната на Неву, балкон, свету масса…
Всю дорогу Эмма не умолкала. Ее худенькая фигура, восторженные глаза – глаза театральной обожательницы – трогали и немного смешили Анну Михайловну.
– Нет, – говорила Эмма, когда вошли в квартиру, – смотри – это столовая, моя комната, твоя, твой будуар, балкон.
– Прелесть, прелесть!
Анна Михайловна благодарила Эмму и поцеловала ее. Ей действительно нравилось. И особенно нравилась Нева– могучая река, туманная и стальная, лившаяся у ног. Что-то суровое было в ней, как и в Исаакии, снова блеснувшем золотом. Он показался ей древним старцем.
Переодевшись, взяв ванну, чувствуя себя свежей и душистой, она вышла на балкончик к чаю. Было очень тепло, на закате дымили пароходные трубы.
– Ну, Эмма, расскажи про театр.
Эмма выкладывала все, что знала. Труппа не совсем определилась, выдвигают Нащокину. Она неважная актриса, но…
– А репертуар? Эмма развела руками.
– Что-то новое хотят. Боюсь, Аничка, разве писатели нынче умеют писать? Впрочем, ставят еще «Нору». И ты, – Эмма припала головой к коленам Анны Михайловны, – ты будешь Норой. Ах, это божественно!
У ней блеснули слезы.
– Ты будешь дивной, Аня.
Анна Михайловна взволновалась. Играть «Нору»! Да, стоит работать. Ей захотелось, чтоб сейчас были репетиции, чтоб и жить только одним… Она слегка вздрогнула.
– Когда пойдет «Нора»?
– Не знаю.
Анна Михайловна встала, прошлась. Становилось прохладно. На набережной зазолотели фонари, красные и зеленые огни пароходиков сновали внизу. «„Нора“, – повторяла она про себя, – „Нора“!»
Остаток дня провели, переставляя мебель, разбирая вещи. К одиннадцати устали обе. Анна Михайловна поцеловала на ночь Эмму.
– Какая ты стала худенькая! Кости да кожица.
– Устаю очень, Аня. – Эмма кашлянула. – Иногда днем, чуть не сидя, засыпаю. Должно быть, малокровие.
– Бедная ты моя птица!
Уложив ее, Анна Михайловна вышла на балкон. Теперь в небе, над нею, сквозь тонкий пар, горели звезды. Что-то трепетало в них; точно бездна дышала. «Вечность, – подумала она, и содрогнулась. – Океан, в котором мы утонем с нашими театрами, репертуаром, славой». Но, взглянув в сторону, где был ее театр, снова ощутила она призывную дрожь. Там она будет сражаться – во имя чего? «Во имя прекрасного». – «А слава?» Анна Михайловна слегка смутилась. С молодости гнала она прочь это слово, ее путь был прям; но в последние годы она стала уж чувствовать, что успех должен ее сопровождать, как награда за художество. А если его не будет? Ей показалось, что теперь для нее это было бы горько.
«Посмотрим, – произнесла она вслух, глядя в тихо гудевшую реку. – Посмотрим».
II
Каждый сезон, перед началом, Анна Михайловна спрашивала себя: кто теперь ее товарищи? Будет ли труппа сносной, или с большей частью ее трудно здороваться? Есть ли интересные люди? Это ее волновало.
С такими мыслями подъезжала она к театру, через несколько дней. В вестибюле было темно; возились рабочие, прибивая сукна. Дверь налево выходила в сад. Ее волнение усилилось. Не лучше ли, пока есть время, уйти в этот сад, – не испытывать тоски, замираний подмостков?
– Горбатов здесь? – спросила она рабочего, слегка глухим голосом.
– В режиссерской-с.
Анна Михайловна прошла по коридору, стукнула в дверь с надписью «Режиссер».
– Войдите.
Горбатов, полный человек в куртке, с крепким актерским лицом, поднял голову. Увидев Анну Михайловну, просиял.
– Очень рад, счастлив. Украшение сцены – вся в черном, скромна, талантлива – превосходно!
– Вы меня захвалите.
– Да уж я знаю, кого хвалю. Между нами говоря, – он нагнулся к ней, – кроме вас, некого и хвалить-то в труппе.
– Очень вам благодарна за высокое мнение. Мне хотелось бы знать, как дела наши, то есть дела театра. Как репертуар?
В глазах у Горбатова что-то мелькнуло.
– Репертуар отличный.
– «Нора» идет?
– Как же-с… – Он на минуту замялся. – Вот наша «Нора». – Он вдруг встал и приложился к ее руке. – Вы, матушка Михайловна, будете вывозить.
Она сдержалась.
– Это решено?
– Да уж я вам говорю. Горбатов вздохнул.
– «Нора» что, – Ибсен. Нам вот тут подвернули одну… Ах, друзья-советчики. – Он хлопнул по столу ладонью. – Извольте расхлебывать.
– Что такое?
– Вам тоже придется играть, – сказал он другим, недовольным тоном. – Пишут же люди…
Но Анну Михайловну занимала теперь «Нора». В ней она видела Дузе, Комиссаржевскую. Радость сыграть Нору томила ее. Она посидела пять минут, стала прощаться.