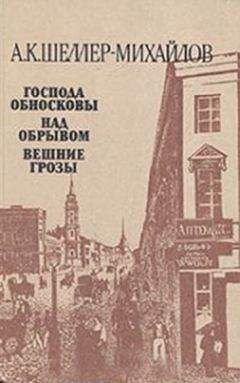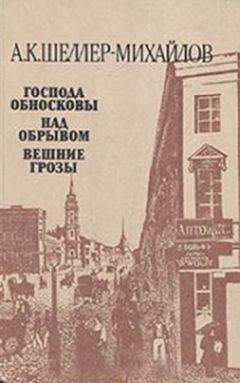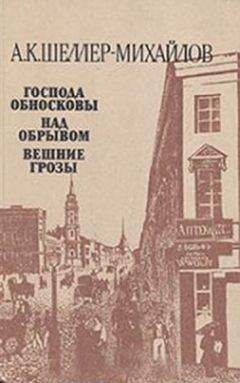На следующий день он пошел в должность в самом тревожном настроении духа. Ему хотелось остаться дома, пролежать день, но манкировать службой было не в его характере.
Около двенадцатого часа Груня позвала к себе горничную.
— Барин ушел? — спросила она. — Ушли-с.
— А Марья Ивановна?
— На рынке-с.
— Одень меня.
Горничная помогла Груне одеться.
— Найми извозчика.
— Что вы, барыня, вам нельзя выезжать.
— Найми извозчика: мне надо ехать…
— Ох, да ведь меня бранить будут, со свету сживут…
— Ничего не сделают… милая, сходи за извозчиком… Я тебя возьму к себе… в дом отца.
— Да разве вы совсем хотите уехать отсюда? — изумилась горничная.
— Совсем.
Через полчаса Груня, шатаясь от слабости, входила в квартиру своего отца.
— Дитя мое, как тебя отпустили, как ты сюда попала? — всплеснул руками старик и бросился поддержать дочь.
— Папа, я более не уйду от тебя, — слабым голосом произнесла она, теряя последние силы, и прижалась к груди отца. — Они меня измучили… Я презираю, я ненавижу их. Я лучше пойду в могилу, чем вернусь к ним.
Кряжов отшатнулся от нее, но она едва не упала от слабости. Старик бросился к ней и обнял ее.
— Расскажи, что случилось, что случилось, — говорил он, обнимая и поддерживая ее, свое единственное сокровище.
— Не спрашивай, я ничего не стану рассказывать. Но не выгоняй, ради бога, не выгоняй меня! — еще крепче прижалась Груня к отцу.
— Дитя мое, дитя мое, могу ли я выгнать тебя! — воскликнул старик, поднял Груню и, как ребенка, как в былые годы ее детства, донес дочь до ее старой девической спальни. — Вот ты и опять здесь, как прежде, как жила девочкой!..
Груня в изнеможении закрыла глаза и впала в забытье. Кряжов сидел над ней, понурив свою львиную седую голову, и о чем-то думал. Невыносимой тоской дышала каждая черта его честного, обрюзглого старческого лица…
Груня не шевелилась.
Кряжов сидел у постели дочери, не замечая, как летит время, и не делал никаких распоряжений, даже не посылал за доктором. Он был совершенно ошеломлен неожиданною бедою. В его голове был какой-то хаос, мысли путались и не вязались одна с другою. Старик не знал, что начать делать, как поправить случившееся несчастие. С самого детства не умел он справляться с житейскими невзгодами и в самых крайних случаях находил спасение себе только в бегстве: так он бежал от розог из школы, бежал от неволи из дома своего дяди, бежал от стеснительных для его преподавания мер из университета, вероятно, убежал бы и от своей жены, если бы она была дурна. Но в настоящем положении патентованное средство никуда не годилось и на место его требовалась дипломатическая тонкость для объяснений с зятем; а именно этой-то способности и не было у Кряжова, не умевшего, как мы знаем, ни в каких случаях объясняться с людьми. Старик теперь кипятился и злился, хотя именно в эту минуту ему всего нужнее было спокойствие и хладнокровие. Резкий звон колокольчика в передней вывел его из оцепенения и заставил поспешить в другую комнату, чтобы встретить непрошеного гостя. Входя в столовую, Кряжов встретился лицом к лицу с зятем. Обносков был встревожен не менее тестя.
— Что у вас там вышло с женою? — сурово спросил Кряжов у зятя, не подавая ему руки.
— Она здесь? — торопливо спросил Алексей Алексеевич задыхающимся от волнения голосом.
— Здесь.
— Слава богу, слава богу! — обрадовался Обносков и, вздохнув свободно, отер со своего плоского лба крупные капли пота. — Фу, как я струхнул!.. Ведь я уж думал, что в бреду горячки она бог знает куда убежала… Вы не можете себе представить, как это меня перевернуло… Мать прискакала в должность, говорит: «Жена убежала!», я ничего не могу в толк взять, в голове какой-то туман, — отвратительная минута!..
Обносков налил себе воды и залпом опорожнил стакан.
— Не в том дело, — прервал его Кряжов, хмуря брови. — Я спрашиваю, что у вас там вышло с женою?
— Ничего не выходило, — отвечал уже более спокойно Обносков.
— Как ничего не выходило?
— Я ее со вчерашнего вечера, когда вы у нас были, и не видал даже.
— А как вы с ней постоянно-то обращались? Как жили? — раздражительно промолвил тесть. — Мучили ее!
— Что с вами, добрейший Аркадий Васильевич? — изумился зять, слыша строптивый тон старика. — Живем мы, слава богу, мирно, тихо… Вы сами знаете, что иначе я и не могу жить при моих занятиях… Но меня удивляет, добрейший…
— Убирайтесь вы к черту со своим «добрейшим»!.. Что я вам за добрейший достался! Вы меня за мокрую курицу считаете, что ли? — вышел из себя плохой дипломат и ближе подступил к Обноскову, отступившему на шаг назад.
Начало не сулило ничего хорошего.
— Что с вами?
— А то, сударь, что вы измучили мою дочь. То, сударь, что она, Груня, мое дитя, не воротится больше в ваш дом!.. Понимаете вы это?
Обносков в изумлении довольно широко открыл свои подслеповатые глазки и еще на шаг отступил перед угрожающей фигурой старого ех-профессора.
— Что же это такое? — прошептал он, слегка изменяясь в лице. — Разрыв… бегство… это уже не бред, не горячка… — потер он рукою лоб. — Да нет! Вы расстроены, вы сами не знаете, что вы говорите! — промолвил он и выпил еще стакан воды. — Глупости какие-нибудь пришли в голову женщине, а вы из мухи слона сделали… Где она? Я пойду к ней… Надо переговорить…
Обносков совсем растерялся.
— Я вам сказал, что вы ее не увидите и она не воротится в ваш дом, — сердито топнул ногою Кряжов и заходил по комнате.
— Помилуйте, кто же ей позволит оставаться здесь? — нетерпеливо пожал плечами зять.
— Я! Слышите вы: я! — крикнул Кряжов, точно он хотел, по крайней мере, перекричать, если не убедить зятя, и рванул с шеи свою косынку. — Я ее не пущу к вам; не пущу, если она сама захочет идти к вам… Мало того, что вы сами мучили жену, так вы позволяли своей матери мучить ее… Вы от чужих прячете эту бабу; она за кулисами, когда у вас гости; вам стыдно показать это неотесанное чучело посторонним людям, но не стыдно заставлять жену жить изо дня в день с этою грубою тварью…
— Послушайте, — начал задыхающимся, но сдержанным голосом Обносков. — Я извиняю ваши дерзости только потому, что вы стары и не помните, что говорите… Вы раздражены… Я понимаю ваше положение. Вы слепо любите свою дочь, вы не можете видеть ее слез… Она, вероятно, рассердилась на меня и на мою мать за какую-нибудь мелочь, пришла к вам жаловаться, расплакалась и расстроила вас окончательно… Вам надо успокоиться…
Кряжов молча продолжал шагать по комнате, опустив на грудь свою седую львиную голову.
— Вы знаете, — продолжал зять, успокоиваясь под мерное течение своей речи, — что я человек не светский, не паркетный шаркун, не праздный остряк… Я не умею и не желаю быть любовником своей законной жены, я считаю брачный союз слишком священным для того, чтобы осквернять его мелким развратцем любезностей, ухаживаний и бесконечных поцелуев… Может быть, моей жене, — извините меня за этот упрек вам, — начитавшейся в вашем доме разных современных развратных романчиков, захотелось на миг иметь именно такого мужа-любовника. Но она, как умная по природе женщина, испорченная только воспитанием, скоро поймет, что церковь не для этого освящает союз мужа и жены. Теперь поветрие на бегство жен от мужей, это зараза в воздухе, внесенная десятком развратных сорванцов, подтачивающих все основы честной, законной и, говорю смело, христианской жизни… Не нам с вами, добрейший Аркадий Васильевич, потакать этому злу. Мы призваны на борьбу с ним, — вы по летам, я по убеждениям…
Кряжов давно уже сидел у стола, скорбно опустив на руки голову, и, кажется, не слышал речей Обноскова.
— Помилуйте, друг мой, — продолжал зять, сверкая узенькими глазами, — сколько раз мы толковали с вами здесь, в затишье семейного кружка, об этих прискорбных, все чаще и чаще повторявшихся заблуждениях? Вы смотрели с таким же неподдельным ужасом, как и я, на этих несчастных жертв, бежавших при первой размолвке от законных мужей. Мы знали, что их ждет разврат, позор и гибель. Как же вы хотите, чтобы я, зная ваши убеждения на этот счет, хоть на минуту поверил, что вы желаете содействовать разврату и гибели своей любимой дочери?
Кряжов молчал. Все ниже и ниже склонялась его седая голова, все более скорбным становилось выражение его лица. Обносков с невольным удивлением, почти с любопытством, смотрел на эту безмолвную, полную тоски и горя фигуру старика.
— Успокойтесь, бедный мой друг, — с покровительством и участием произнес Обносков, подходя к старику и дотрогиваясь до его плеча. — Дело поправимое!
Этот тон снисхождения внезапно вывел Кряжова из забытья. Старик вскочил и поднял голову.
— Прочь, негодяй! — крикнул он, встряхивая с омерзением плечом, до которого дотронулся зять. — Я тебя из своих рук задушу, если это будет нужно для свободы моей дочери. Я через твой труп перенесу ее на волю, бездушная, пресмыкающаяся тварь!.. Сожаление!.. Ты смеешь жалеть меня!.. Понимаешь ли ты, что ты наделал?.. Ты человека загубил! Мою дочь загубил!.. Да что я говорю: дочь! Ты загубил нас всех, все наше счастие, весь наш семейный мир… Слышишь ты? — тряс Кряжов зятя за плечи, как бы готовясь вышвырнуть его за окно на улицу.