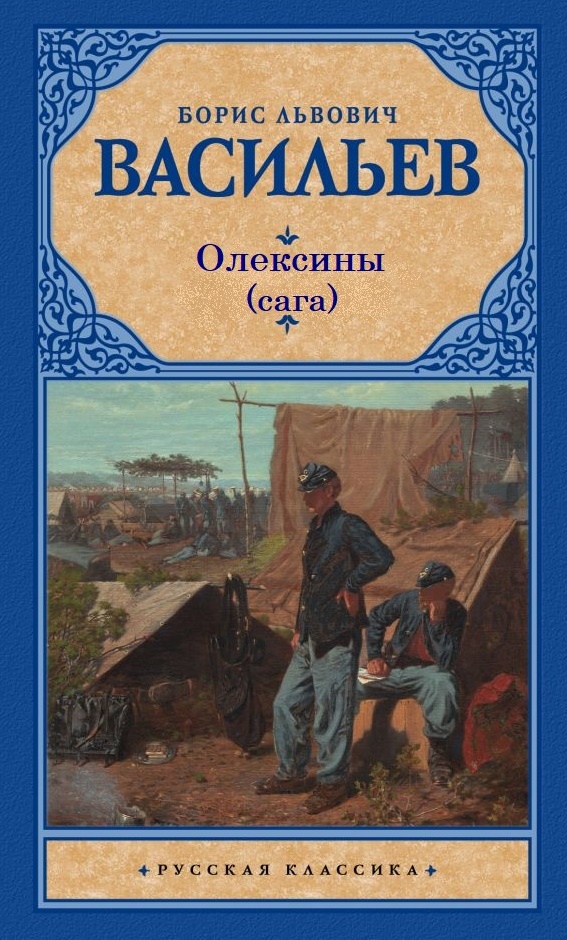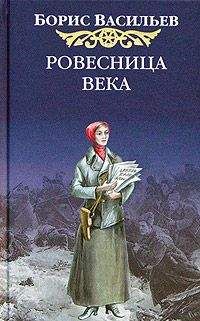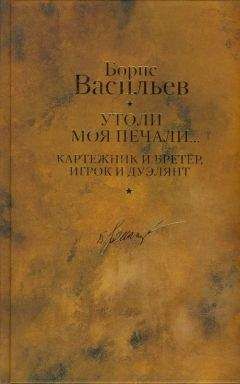Вот так и осень закончилась, и зима началась. И едва началась она, как разбудил меня денщик мой в неурочный час. Среди вьюжной и морозной декабрьской ночи.
— Ваше благородие, в штаб требуют.
— Кто?
— Не могу знать. Вестового прислали.
Примчался в штаб, а там уж — почти все офицеры. Никто ничего не знает, так с незнанием и ввалились к командиру полка.
— Господа офицеры, поднимайте солдат по тревоге и держите в полной готовности.
— Война, господин полковник?
— Гвардейский мятеж на Сенатской площади.
К счастью, для полка нашего все обошлось: без нас Санкт-Петербург с мятежниками справился. А для меня — не совсем. С батюшкой от всех этих государственных передряг удар приключился. Матушка депешу прислала о внезапной болезни его, и командир на неделю отпустил меня домой.
…Судьба ли, природа ли или сам Господь Бог сдает каждому его карты на всю жизнь ровно один раз. У кого — сплошные онеры в козырях, у кого — тузы, а у кого и одни фоски — это уж как кому повезет. Но большинство почему-то всю жизнь так и живет с теми картами, что при рождении выпали. Стонут, жалуются, кряхтят, просят пересдать заново. А нет бы подумать об изменении судьбы собственной. Да, карты сданы, но — для игры, для азарта, для способностей и куража вашего. Так разберитесь в них и смело играйте по тем правилам, которые сама жизнь вам предлагает! Она — ваш соперник отныне, и тут уж — кто кого. В жизненной игре и сброс предусмотрен, и прикуп, и козыри, и ходы ваши: так дерзайте же, не ждите милостей. Берите игру на себя и — по банку!
Это я написал, то разумея, что обстоятельства жизни меняются и мы обязаны меняться вместе с ними, иначе из игры вылетим. И люто начнем завидовать тем, кто куши с банка снимает, а то и весь банк. Что, завистников, коим и тридцати еще не исполнилось, не встречали? Встречали, поди, — глазки их выдают.
Это я к тому, что в том декабре двадцать пятого я еще не собственной колодой играл. Почему, как и большинство, не одобрял событий на Сенатской площади. Мятежников с претензиями в них видел, а не рыцарских героев российской истории. Без всякого стыда в этом признаюсь, потому что искренность чести не в упрек.
Но что-то, вероятно, в глубине души моей шевелилось. Что-то мне непонятное и как бы даже неощущаемое. Предчувствие?.. Нет, что-то похитрее. Что-то из памяти предков моих, дружинников княжеских, не забывавших перед тяжкой битвой сунуть за голенище мужицкий засапожный нож…
Иначе как объяснить, почему я решил вдруг, к занемогшему батюшке в Петербург направляясь, сунуть в дорожный чемодан пушкинские стихи о французском поэте Андрее Шенье?..
Да, в Санкт-Петербург: на зиму дворянство в столичные дома переселялось из всех своих Опенок да Антоновок. А тут еще и свадьба на носу. И бригадир мой, по счастью, оказался в столице, где и воспринял декабрьское противостояние в виде личного удара. Но и врачи вовремя, и кровь сброшена, и пьявки к затылку, и матушка моя — рядом днем и ночью.
Когда я на курьерских примчался, ему уже полегчало. И усмешка вернулась, и брови по лбу обычным путем уже перемещались, и речь на своем месте. Только, правда, еще короче теперь стала:
— Вот они, Раевские твои.
Лежал он еще в постели: и откуда терпение нашлось? И читать в мыслях моих, к удивлению, не разучился.
— Любовь не только совместное ложе, жених, но и совместное лобное место.
Женихом он меня скорее в насмешку обозвал, поскольку свадьбу отложили до лучших времен. До полного выздоровления так некстати пострадавшего батюшки.
Генерал навещал старика моего ежедень, а Прасковья Васильевна от матушки всю первую, решающую неделю вообще не отходила. Но невесте, Полиночке моей, бригадир решительно, языком, еще коснеющим, запретил пред глазами его мельтешить, почему я и поехал к ней уже в следующий вечер. И, собираясь на свидание то, достал из дорожного чемодана подаренные мне Александром Сергеевичем стихи об Андрее Шенье и захватил их с собою.
И — опять загадка: почему я именно тогда вокруг этих строф закружил? До того времени лежали они и лежали, да и не вспоминал я о них, признаться. Тоска меня заедала, я в прогулках да разговорах с милой девицей топить ее пытался, но закончилось все обозначенной свадьбой как-то, признаться, уж совершенно для меня неожиданно. И мысли вокруг женитьбы завертелись, вокруг будущей семейной жизни… А тут после разгрома восстания на Сенатской площади, после того, как отца удар хватил, после переноса собственной свадьбы на срок неопределенный — ну будто заколдовало меня на «Андрее Шенье».
Правда, тогда я просто себе все объяснял. Мол, с Полиночкой давно не виделся, а она так стихи любит. И так огорчается, что свадьбу нашу перенесли. И ей будет приятно внимание мое. Потому с того и начал, что протянул ей исписанные пушкинским почерком странички. Но она неожиданно отложила их и глянула на меня:
— Как ты провел день четырнадцатого декабря?
— В полупоходе. Приказано было в полной боевой выкладке дальнейших распоряжений ждать.
— Я не о том, Саша. Это — как бы снаружи. А в душе твоей что творилось?
Не понравился мне тогда вопрос ее. Вам ведь тоже не нравится, когда на мозоль наступают.
— Злился, что выспаться не дали.
— И со злости мог приказать роте стрелять по своим?
— Присяга есть слово чести.
Я нахмурился и замолчал. Полиночка грустно улыбнулась и начала про себя читать строфы «Андрея Шенье». Думаю, щадила меня, давая время подумать и успокоиться.
…Стрелять по своим? Признаться, в такой телескоп я собственную душу тогда не рассматривал. Я был офицером, видел себя офицером