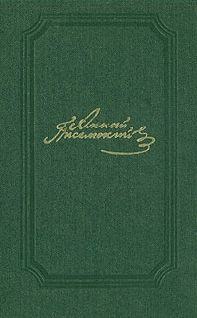В гостинице, куда меня привезли, отвели мне, как водится, сыроватый и темноватый нумер с диваном, со столом и картинками, которые на этот раз изображали поучительно печальную историю Фауста и Маргариты.
Итак, подумал я не без удовольствия, для меня миновался этот степной путь с его вьюгами, голодом и девственной природой, не зараженной людским дыханием и не изуродованной ни шоссе, ни железными дорогами.
- Дай мне, братец, есть, - сказал я провожавшему меня номерщику.
Он подал огромную порцию стерляжьей ухи, свежей осетрины и жареного фазана, при котором место огурцов занимали соленая дыня и виноград.
- Вот с этой стороны Астрахань красива, - сказал я сам себе и заснул, как может заснуть человек, проехавший в перекидной повозке, на почтовых две тысячи верст.
С кем бы вы в Астрахани ни заговорили о море: с морским ли, с чиновником ли земской полиции, - от всех вы услышите на втором - третьем слове: Бирючья коса. Это маленький островок, на котором содержится брандвахта[7], устроены карантин и таможенная застава. Адмирал поехал туда и пригласил меня. Выезд был предположен 23 марта. Дул верховой ветер. Слухи носились, что на Волге еще много льду. Съехавшись в порт, мы действительно увидели весь околоберег замерзшим. Проламывая и расталкивая лед, добрались мы кое-как в катере до парохода, дали ход и стали сниматься с якоря. Пароход сначала было двинулся, но, затираемый льдом, не слушался руля и не ворочался, и, только употребив завозы, мы выбрались на фарватер. Все стояли на палубе, хоть ветер и продувал до костей. Скоро миновалась Астрахань, миновалось и Царево, а там и пошли тянуться однообразные и мертвенные берега: то ровные пустыри, то высокий камыш, очень похожий на поспевшую рожь, только в десять раз крупней ее. Местами он горел. "Это отчего?" спросил я. - "Нарочно жгут, иначе он на следующий год не вырастет", ответили мне.
С пятнадцатой, кажется, версты виды несколько пооживились: стояли на якорях кусовые[5], и бойко шли косные, из которых некоторые едва отставали от парохода. По берегу стали показываться рыбные ватаги[6] и калмыцкие кибитки, пред которыми толпились задымленные и волосатые калмыки и нагие их мальчишки. В стороне на одной из отмелей сидели белые, довольно большие, и черные, поменьше, птицы. Это пеликаны и бакланы, две разные породы, но живущие между собой в замечательно оригинальных отношениях: бакланы составляют для пеликанов какой-то чернорабочий класс. Они подгоняют и ловят для пеликанов рыбу и будто бы даже кладут им ее в рот, засовывая при этом случае свой клюв в их глотку, но чем вознаграждают их пеликаны за эту услугу, неизвестно; кажется, ничем: ни дать ни взять как на новой половине земного шара белая и черная породы людей.
Для здешнего плавания только и спасение, когда дует ветер с моря и дает возможность проходить через три главные мели: Княжевскую, Харбайскую и Ракушинскую. Маленький пароход наш сидел в воде только четыре фута, но и того было много: на Княжевской россыпи пошли мы тихим ходом и стали кидать лот: "6 фут, 5 фут, 4 3/4", - кричал матрос.
- Авось, пройдем и Харбайскую, она меньше Княжевской на один только фут, - сказал капитан; но Харбайскую не прошли. Надобно было пересесть на катер. Невдалеке виднелась деревня Оля, в которой поселены русские мужики, бывшие некогда в плену в Хиве. Адмирал благоразумно приказал грести к этому селению. Подъехали. Навстречу к нам вышло несколько мужиков. Мы стали расспрашивать их. "На катере, говорят, не проедете Ракушинскую россыпь: мелко". - "Давайте ваши лодки". - "Да и на лодках, которые побольше, нельзя, а на бударках", - ответили нам и стали снаряжать бударки. Я пришел в ужас, взглянув на маленькую и едва сколоченную лодчонку, в которой сверх того случай усадил меня с почтенным и значительно полным полковником Б. До сих пор не могу я без неприятного ощущения представить себе его массивной фигуры. Мне казалось, что мы оба с ним поместились в суповой ложке и что достаточно с нашей стороны одного движения, чтобы бударка кувыркнулась вверх дном, а полковник между тем находил какое-то странное наслаждение осматривать окрестность и беспрестанно ворочался из стороны в сторону. Проехав мель, нам пришлось ехать почти морем. Солнце село. Ветер разыгрывался, волны выше и выше поднимались. Я только и смотрел на мелькающие вдали огоньки с Бирючьей косы и думал: "Господи, настанет ли когда-нибудь такая счастливая минута, когда я буду там, на земле, не буду чувствовать этого неприятного покачивания, не буду видеть этих сероватых, как бы белой гривой взмахивающих волн!" Ехавшая впереди лодочка, на которой сидел адмирал, остановилась. "Что такое?" - спросили мы, подъехав. - "Нельзя дальше ехать: лед!" Надобно было проламываться. Принялись работать. Но еще несколько сажень, и бударка остановилась: мелко. Делать нечего, оставалось одно: кричать. Услыхавшие нас матросы пришли, наконец, к нам на помощь и перетаскали нас на своих плечах на берег. Так совершился мой первый водяной вояж; на обратном пути пришлось испытать не лучше. На другой день задул верховой ветер еще сильнее и холоднее. Весь фарватер мы увидели замерзшим. Оставленный нами катер, говорят, обмерз весь кругом. Положили переночевать и в ожидании, что будет завтра, пошли мы осматривать Бирючью косу. Замечательного немного, кроме разве совершенно бесплодной почвы, которая вся состоит из ракуши, плотно связанной глиняным цементом, так что представляет собой нечто вроде мозаического паркета, а остальное: дом брандвахтенного начальника, в стороне таможня, чрез поле - казармы для карантинной стражи и, наконец, самый карантин, обведенный рвом.
- Вот здесь умирали чумные и холерные, - говорили нам, указывая на маленькие комнатки.
"Ну, чтобы только видеть это, не стоило ехать сквозь лед, через отмели", - подумал я.
- Спал верховой ветер, дует с моря, - обрадовали нас на другой день.
Свойство здешнего фарватера таково, что достаточно двух - трех часов моряны, и вода нагонится на два, три фута. Стало быть, откладывать было нечего, все поспешили одеться и отправиться. Льду почти было не видать. У ближайшей кусовой виднелся наш катер; но, чтобы добраться до него, мы должны были сначала въехать на долгуше, запряженной лошадью, в воду, потом пересесть на маленькие лодочки, которые и подвезли нас к катеру. Дружно хватили 12 человек гребцов, все севастопольские георгиевские кавалеры; после востроносой бударки мне казалось, что я еду на могущественнейшем винтовом пароходе; верст пять пролетели мы в полчаса, но тут - увы! - подошла Ракушинская мель и сплошь оказалась покрытою льдом; надобно было опять проламываться. Гребцы стали у носа колоть лед, а мы, пассажиры, раскачивать катер - вставая и ударяясь об его бока. Вдали, наконец, показался наш пароход. Давно я не бывал так доволен своим положением, когда вбежал по трапу на гладкую и чистую палубу парохода. "О, мудрость человеческая! воскликнул я. - Хвала тебе за изобретение больших судов с каютами, каминами, кухнями, паровым двигателем, и здесь тебе остается только очистить фарватер и устроить хоть какую-нибудь пристань на Бирючьей косе!"
Наконец, я был в море. Адмирал пошел в Баку и пригласил меня. В 9 часов утра вышли мы из Астрахани. Я еще хорошо помнил мою поездку на Бирючью косу, но на этот раз дула моряна: ни Княжевская, ни Харбайская, ни даже Ракушинская россыпи нас не задержали. К пяти часам мы прошли Волгу, подошли к Бирючьей косе и пересели на большой пароход "Тарки". Впереди за Знезинской россыпью виднелся четырехбугорный маяк, место для которого будто бы выбрано было еще Петром Великим, а там уж и море, настоящее море; но дальше мы не пошли: дул свежий ветер, и пароход не в состоянии был выгрести.
Проснувшись на другой день поутру, я по стуку машины догадался, что мы идем, поспешил одеться и вышел на палубу. Надо мной было небо, а кругом вода. Приятное и вместе с тем какое-то боязливое чувство овладело мною: на телеграфах, на железной дороге, на пароходах как-то невольно начинаешь больше уважать человека, больше верить в силу его разума, видя, как он почти с волшебной силой пробегает пространства, на враждебной ему среде строит себе дом, заставляет этот дом слушаться руля, воспользовался ветром, изобрел компас и, наконец, приложил новый двигатель - пар; но, с другой стороны, сильна и неразумная стихия; новичков обыкновенно пугают качкой, и это еще, говорят, ничего, но бывает шторм: руль сломан, компас бесполезен, пар бессилен. При этой мысли мне невольно захотелось увидеть хоть бы где-нибудь вдали землю.
- Будут ли на нашем пути острова? - спросил я штурманского офицера.
- Не скоро; ближе всех Тюлений остров, да и тот вряд ли увидим, отвечал он.
"На землю, стало быть, рассчитывать нечего", - подумал я. Между тем задул небольшой ветерок, нанеслись облака, и стал накрапывать дождик.