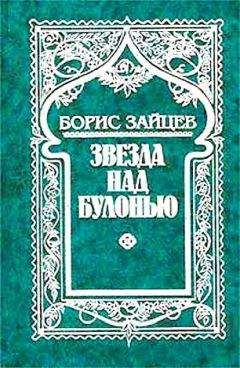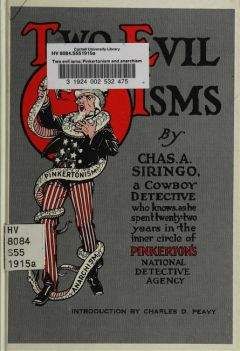– Отчего ты всегда такая… ну, будто ловко сшита… – он сбивался и махал рукой. – Нет, я не так, ну, понимаешь… Ты каким-то пением вся проникнута.
Мне это нравилось. Я улыбалась.
– В сумерки, в марте, благовест, и вон ледок в тени… а там заря, и еще позже звезда выйдет, и это тоже, так сказать, и все само собой понятно… все – одно. И ты вот тоже. Но еще даже легче.
Таков был мой Маркуша.
Отец над ним посмеивался. Считал фантасмагористом – признавал же лишь простое, ясное.
Когда Маркуша философствовал насчет того, что, мол, материя и дух – одно, мир есть система символов, отец лениво подпирал себе рукою щеку, полузакрывал глаза, пиво прихлебывал.
– Нечего тут гадать, нужно слова знать.
– Да, но если бы человечество… так сказать… никогда не гадало бы… ну, и если бы только зубрило эти самые… слова…
Отец отмахивался безнадежно.
– Отказать, – бормотал, – отказать!
На нас же он смотрел без огорчения. Был убежден, что рано или поздно надлежит девушке выходить замуж – «так и везде в природе». И мы с Маркушей были предоставлены себе, своей свободе, молодости, жажде жизни и любви.
Мне не забыть одной из этих весен города Москвы, – какая тихая и теплая была весна! Маркуша заходил ко мне в консерваторские квартиры, но я уж не могла быть с ним в приемной, вела к себе. У меня окно настежь, ветерок треплет кисейную занавеску, за стеной Нилова выводит рулады, и кусок бледно-золотеющего, предвечернего неба влетал к нам, мы же смеялись, сидели на подоконнике и не знали, что делать. Потом шли бродить. Мы подымались по Никитской. Маркуша задевал нечаянно прохожих, попадал в лужу, смущался, извинялся, и мы брели бульварами – Тверским, Никитским, по Пречистенскому – мир же весь раскрыт, в зеленоватом веянии весны, при пригревавшем солнце из-за перламутра облачков могли бы мы уйти хоть и на самый конец света.
На Арбатской площади Маркуша покупал фиалок, мы брели к храму Спасителя. Воздушно-нежные, мимотекучие и позлащенные узоры облаков казались нам дивной дорогой в будущее, легкими венками счастия.
Вечером же, на бульваре, юные и бледно-зеленеющие звезды глядели на нас сквозь зеленоватое кружево деревьев, мы украдкой целовались, проходя древний, вечно юный, вечно обольстительный путь любви ранней.
На Страстной Маркуша водил меня к Борису и Глебу, на Двенадцать Евангелий – он был религиозен, я же и не знаю, думала я тогда о религии или же нет. Евангелие, Страсти Господни и облик Христа всегда трогали, но могла ли я назвать себя христианкою? Не смею сказать. Помню лишь, что и тогда чтение Евангелий меня растрогало. Потом я побледнела от усталости, но мы дослушали, и нежным вечером апрельским возвращались по Никитскому бульвару, неся свечки зажженные. В полусумраке весеннем многие другие шли с такими же свечами – было очень славно. Мы старались, чтобы не задуло огоньки, и это удалось нам.
Светлую же заутреню стояли в Кремле, в древней, покосившейся церковке Константина и Елены, внизу под памятником Александру. Иван Великий и Успенский собор были иллюминованы. Густо, бархатно бухнул колокол на Иване Великом в сырой, теплой, как всегда темной Пасхальной ночи. И со всех концов загудели другие. Пушки гремели, толпа бродила, фейерверк, иллюминация. А мы с Маркушей похристосовались, перекрестили друг друга – и поехали к отцу разговляться. Извозчик, дребезжа плохенькой пролеткой, долго вез нас Солянками, Николо-Ямскими, в смутно-радостной, пасхальной Москве. Церкви сияющие встречались по пути, люди с куличами и пасхами, дети со свечечками. Колокольный гул тучей приветливой стоял над Москвой, и от Андрониева монастыря, обернувшись в пролетке, мы увидели на фоне слегка светлеющего уже неба тонкий ажур иллюминованного Кремля.
– Вот она… матушка наша… Москва православная, – Маркуша пожимал мне руку. – Ну, смотри… все как надо.
Сторож отворил заводские ворота, поклонился. Завод ворчал, но как-то тише, сталелитейная не вспыхивала белым светом.
Зато наш дом светился, и в столовой ждал отец, среди закусок, пасок, куличей, цветов. Нилова и Костомарова заседали уже за столом, в белых платьях, и отец чокался и христосовался с Женей Андреевской.
Нилова кинулась мне на шею, зычно крикнула:
– Наташка! А мы думали, уж ты и не вернешься!
Отец угощал Женю пасхой, по временам требовал:
– Ручку.
И прикладывался к ней. Нас с Маркушей встретил ласково и покровительственно, и, веселые, счастливые, мы легко вошли в тот вечер в беззаботный круг празднующих.
Наутро же Маркуша все бродил в садике, наступал на клумбы, что-то бормотал. Напоминал он несколько лунатика – но в лунатизме блаженном.
К отцу приходили поздравлять с праздником служащие и мастера. Все – в сюртуках и белых галстуках, важные, не знающие, что сказать. Отец прохаживался с ними по бенедик-тинчику, рассказывал о разных замечательных охотах и облавах, гончих удивительных – они же размякали. Нилова вычистила зубы. Вымыла для праздника худую шею. Женя разыгрывала даму, занимала гостей, пела, нюхала розу, но иногда выбегала ко мне на балкон, фыркала, давилась со смеху.
– Понимаешь, я графиню из себя изображаю, а тут чех этот румяный, Лойда, верит и работает… ну, под барона, что ли, а сам всего-то «скакел пэс пшез лес, пшез зелены лонки».
Все это было глупо, но казалось также мне смешным, мы хохотали, взглядывали на таинственного нашего Маркушу, нечто замышлявшего, – и снова хохотали.
Он наконец не выдержал, вызвал меня в сад.
– Я, Наташа, знаешь… ну… уж как тут быть? Надо ведь сказать… я дядю Колю с детства… и вот боюсь…
Я его покрутила за вихры – все во мне пело и смеялось, мне хотелось целовать и небо, облака бегущие, ветерок, налетевший с Анненгофской рощи.
– Конечно, скажем.
После обеда отец сидел на балконе за пивом, с Женей Андреевской.
– Приезжайте ко мне петь в деревню. Бросим к черту все заводы. Будем пиво пить, дупелей стрелять, осенью за зайчишками, знаете… тикй-такй, тикй-такй, так-так, так… Я себе наконец имение купил, вот вы мне и споете там.
Я подошла к нему сзади, обняла голову, ладонями глаза зажала. Так любила делать еще с детства, и привычно он потерся мне затылком о щеку.
– Ну, что еще там?
– Маркушка в кабинет зовет.
– Ишь разбойник. А сюда прийти не может?
Я поцеловала его в аккуратный пробор – в белую, тоже с детства знакомую дорожку через голову.
– Не может. Дело важное.
– А, шутова голова.
Он крякнул, забрал папиросы, грузно встал, прошел в свой кабинет, и я за ним.
Маркуша у камина, потирает руки, будто очень холодно.
– Я, собственно… я, дядя Коля… уж давно вам собирался… я… то есть мы давно собрались уже… то есть собирались…
Отец вздохнул.
– У меня был почтмейстер на заводе. Так он к каждому слову прибавлял: «Знаете ли, видите ли». Вот раз директор приезжает, вызвал его, а тот все: «Знаете ли, видите ли», – ну, директор предложил: хорошо, рассказывайте, а я буду за вас «знаете ли, видите ли» говорить.
Я засмеялась, обняла отца опять.
– Дело простое. Он хочет сказать, что собирается на мне жениться.
Отец закурил и ловко пустил спичку стрекачом в камин.
– Это дело. Это дело ваше.
Маркуша издал вопль, бросился ему на шею, стал душить. Я повисла с другого бока, все мы хохотали, целовались, но и слезы были на глазах. Маркуша убежал. Отец же вынул чистый носовой платок, отер глаза, поцеловал мне руку.
– Я так и ожидал. Ну, хоть не забывай меня.
Тут уже я заплакала – еще тесней к нему прижалась.
– Что ж, вспрыснуть. Невозможно, надо вспрыснуть.
Через несколько минут Женя Андреевская визжала уже на балконе, тискала и обнимала меня. Анна Ильинична поцеловала степенно.
– Поздравляю, Наташа, и желаю счастия.
Нилова даже заплакала – верно, вспомнила об армянине, – повисла у меня на шее и зубами скрипнула. Грубоватым шепотом шепнула:
– Ты счастливая, Наташка, ей-Богу правда, не сойти мне с этого места.
Мы выпили шампанского, Маркуша пролил свой бокал и наступил на ногу Жене Андреевской. Но все ему прощалось, ради торжественного дня, ради той детской радости, смущения, которыми сиял он.
Потом отец свез нас в ландо на Воробьевы горы.
Я помню светлый, теплый день, ровный бег лошадей, покачивание коляски на резинах, нашу болтовню, нашу Москву, Нескучный, дачу Ноева в бледном дыму зелени апрельской, белые – о как высокие и легенькие! – облачка в небе истаивающем – и вновь Москву, раскрывшуюся сквозь рощи Воробьевых гор, тихое мрение куполов золотых, золотистый простор, безбрежность, опьянение легкое весной, счастьем и молодостью. Возможно, нам и надо бы сказать времени: «Погоди, о, не уносись». Но мы смеялись, любовались и шалили – а Москва гудела колоколами, светилась под солнцем, струилась в голубоватой прозрачности и дышала свежестью, праздником, весельем.