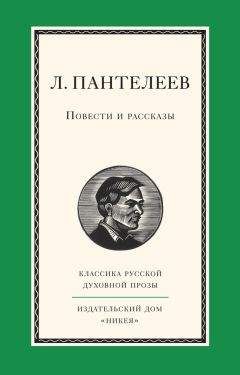В домовые, маленькие церкви мы ходили по вечерам, ко всенощной, а литургию я представляю почему-то непременно в большом храме и непременно в погожий, летний или весенний день, когда синеватый, пронизанный ладанным дымом солнечный столп косо падает откуда-то сверху, из купольного окна. Округло, выпукло блестит золото предалтарного иконостаса. Пронизанная светом, пурпурно алеет в прорезях Царских врат таинственная завеса. Все радует меня, трогает, веселит мое сердце. И раскатистые, гудящие возглашения дьякона, и наплывающие, набегающие на эти возглашения «Господи, помилуй» и «Подай, Господи!» хора, и истошный и вместе с тем веселый, радующий почему-то сердце крик младенца перед причастием, и запахи деревянного масла, ладана, свечного нагара, разгоряченного человеческого тела, толпы… И прежде всего – молитва, молитвенный настрой души… Да, уже и тогда я умел молиться – не только знал заученные слова молитв, но и находил свои собственные слова, обращенные к Господу, – слова благодарности, просьбы, восхваления.
– Господи, помоги, чтобы папу нашего не убило, не ранило, – шептал или мысленно говорил я, стоя на коленках, делая земной поклон и касаясь крутым еремеевским лобиком каменной плиты церковного пола.
Мама поручала мне класть деньги на блюдо или ставить свечу «на канун», – и я уже знал, как это делается. Затеплив огонек от другой свечи, расплавив, размягчив основание тоненькой восковой палочки на пламени этой другой, горящей, свечи, вставляешь свою свечку в свободное гнездо многосвечника и плотнее прижимаешь, придавливаешь ее к стенке гнезда, стараясь, чтобы она стояла совсем прямо, вертикально.
И все это не суета, не развлечение, все это – часть ритуала. Не на елке свечки зажигаешь, не для себя, не для гостей – для Бога.
– Во́ннмеммм! – гудит под сводами собора бас дьякона.
И прежде чем священник откроет на аналое большую книгу в серебряном окладе и начнет читать: «Во время оно прииде Иисус в Назарет, иде же бе воспитан…»[10] – ты уже низко наклоняешь голову – знаешь, что именно так, с преклонением головы, слушают в церкви Евангелие.
Вместе со всеми, кто стоит вокруг, ты поешь «Верую» – и веруешь, – не все еще понимаешь, но всей душой веруешь – и во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в Духа Святаго, и в воскресение мертвых, и во Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь…
А как трепетно ждешь ты главной минуты литургии!..
Как радостно было накануне, когда, вернувшись домой после первой исповеди, ты лег спать не поужинав. А утром перед обедней, и перед Причастием тоже ничего не ешь и не пьешь. С какой легкостью и на душе и в теле идешь ты вместе с мамой в церковь.
И вот она – главная минута. Ты – впереди, но не из самых первых. Первые – младенцы и вообще маленькие, а ты уже большой, ты – исповедник.
Еще издали видишь Чашу и красный плат в руке дьякона. И красную завесу в барочных прорезях Царских врат.
Подходит твоя очередь. Волнуешься, но волнение радостное, счастливое. Слегка привстав на цыпочки, тянешься, вытягиваешь шею. Высокий дьякон, чуть-чуть наклонившись, подносит к твоему подбородку сложенный вчетверо большой красный шелковый, почему-то очень нежно касающийся твоей кожи платок.
– Имя? – сдерживая бас, вопрошает дьякон.
– Алексий.
(Да, я уже знаю, что в церкви я не Алексей, а Алексий.)
Руки сложены крестом на груди. Открываешь рот. И видишь, как, слегка наклонившись, бережно подносит батюшка к твоему отверстому рту золотую или серебряную плоскую, утлую ложечку, что-то при этом произнося, называя твое имя. Уже! Свершилось! В тебя вошли, озарили тебя блаженством Тело и Кровь Христовы. Это – вино и хлеб, но это не похоже ни на вино, ни на хлеб, ни на какие другие человеческие еды и пития.
Спускаешься с амвона, медленно следуешь за другими мальчиками и девочками, и за какими-нибудь дряхлыми старичками и старушками, к тому низенькому столику, на котором ждет тебя блюдо с белыми кубиками просфоры, большой медный кувшин или чайник, а рядом на подносе плоские серебряные чашечки с такими ручками, какие бывают на ситечках для чая. В чашках слегка розовеет прозрачная жидкость – тепло. Кладешь в рот два-три кусочка просфоры, запиваешь теплом. Ах, как хорошо!.. Подумал сейчас: никакие конфеты, никакая халва или пастила никогда не доставляли такого наслаждения. Но – нет, при чем тут пастила или халва? Эта радость – не гастрономическая, не чувственная. Это – продолжение, заключение того, что только что свершилось на амвоне.
Отходишь в сторону, ищешь глазами маму. Вот она! Издали улыбаясь, пробирается она к тебе, наклоняется, нежно целует в щеку, поздравляет с принятием Святых Тайн. И ко всем другим запахам примешивается еще и мамин запах – запах муфты, меха, духов и зубного лекарства…
* * *
А перед этим была неделя, когда ты говел, то есть готовился к исповеди. Мама, не евшая скоромного весь Великий пост, нам, детям, позволяла поститься только ту неделю, когда мы говели. По возрасту я пошел к исповеди первый, за мной – Вася, а потом, уже в год революции, и Ляля, очень, по ее словам, весь день волновавшаяся, потому что был на ее душе большой грех: неделю назад стянула она на кухне и украдкой съела испеченную из теста птичку, румяного благовещенского жаворонка.
Конечно, наш детский пост не был изнуряющим. Вместо мяса мы ели рыбу, кофе пили с миндальным молоком, на ужин нам давали картофельные котлеты с грибным соусом или какие-нибудь копчушки.
Когда я подрос, мне позволено было поститься и на Страстной неделе. Всю эту неделю я ежедневно бывал с мамой в церкви, иногда и по два раза, на двух службах. И тогда, в детстве, и сейчас, когда голова моя давно побелела, великопостная служба, особенно всенощная, – моя самая любимая. Не передать всей прелести той скромной и печальной обстановки, какая царит в полутемном храме в эти зимние или весенние вечера. И облачение духовенства, и парчовые украшения на иконостасе, и те холщовые чехлы, которые надеваются на аналои, – все в эти дни траурное, неяркое, неброское – черное с белым или серебряным.
А в детстве я не мог и сейчас не могу без слез, без спазма в горле слушать или читать молитву святого Ефрема Сирина.
Отзвучали последние песнопения, отгудел бас дьякона, погасло электричество, только редкие свечки помигивают то тут, то там – у распятия, у Казанской, у Скорбящей, у Николы Чудотворца, у Серафима Саровского… И молящихся уже не так много.
Из левой боковой алтарной двери выходит на амвон батюшка. Он уже снял свое жесткое черно-серебряное облачение, остался в домашней, черной или темно-серой рясе, на которой так чисто и молитвенно-грустно посверкивает наперсный серебряный крест.
Обратившись лицом к уже закрытым, уже потемневшим, потускневшим Царским вратам, батюшка некоторое время молчит. Молчим и мы, ждем. Тихо, как никогда в другое время не бывает тихо, в храме. Только где-нибудь догорающая свечка вдруг нешумно затрещит, зафыркает, как бенгальский огонь. И опять тишина.
– Господи и Владыко живота моего, – истово, мягко и четко начинает батюшка, осеняя себя широким и неторопливым крестом.
И ты, маленький, но не чувствующий себя маленьким, громко или шепотом повторяешь за седовласым пастырем дивные слова молитвы:
– Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми!
И вслед за священником и вместе со всеми, кто стоит вокруг, ты опускаешься на колени, крестишься и лбом касаешься холодной плиты пола. И сразу поднимаешься. И все поднимаются. Как море, как волны шумят вокруг. И ты опять слышишь голос батюшки и со слезами в голосе истово повторяешь за ним:
– Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему!..
И опять шумят волны. Опять ты опускаешься на колени.
Одна за другой гаснут свечи. И в полумраке храма только лампады – малиновые, зеленые, густо-синие, по моим представлениям неугасимые, никогда не гаснущие, – неярко светятся, мигают и тоже на всю жизнь оставляют след в твоей памяти и в твоей душе.
* * *
Нет, конечно же не только здесь, в храме, на богослужении, приобщался я к христианской вере. Еще задолго до школы мама познакомила меня с Новым, а потом и с Ветхим Заветом. Если не ошибаюсь, она не читала, а рассказывала.
Если все ветхозаветное – Адам и Ева, Каин и Авель, Авраам, Иаков, младенец Моисей, плывущий в корзиночке по реке, история Иосифа и братьев его, Давид и Голиаф, Самсон, – если, при всей возвышенности и духовности, все это было все-таки чем-то отвлеченным, эпическим, сказочным, то в истории жизни и смерти Спасителя все – даже чудеса – было лишено малейшей книжности, было очень домашним, понятным, родственно-близким. Вероятно, рассказывая, мама пользовалась какими-нибудь картинками, потому что в памяти моей живет как свое, как виденное мной самим – и хлев в Вифлееме, и плотничий верстак Иосифа, и мальчик Иисус в белом хитончике, которого потеряла на празднике мать и, изволновавшись, нашла наконец в храме, окруженного взрослыми, учеными людьми, с удивлением внимающими ему. И свадьба в Кане Галилейской, когда не хватило вина. И Генисаретское озеро. И Нагорная проповедь, слова которой не поражали тебя, а ненавязчиво, как нечто непреложное, входили в твое сознание, в душу, в твой жизненный обиход.