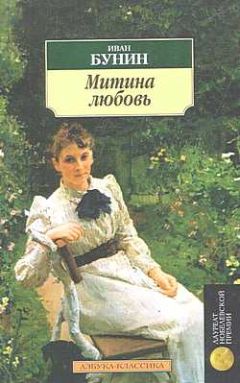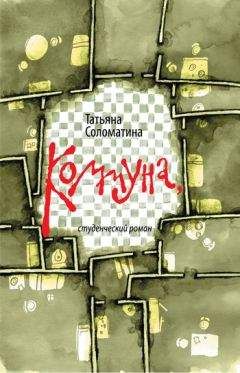Однако утром, при солнце, его ночные терзания быстро рассеялись. Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы, вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня, и как трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду, как провожала она его на вокзале… Он вынул ее фотографическую карточку, долго, долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого (чуть круглого) взгляда… Потом написал ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.
Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчой, — и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду… Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц — и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, — все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, ее вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался — или мнился — в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах…
Такое же наваждение, — только совсем другого порядка, — испытывал Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, — дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ не существующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали, и с каждым днем все живее и живее чувствовалась во всем, на что бы ни взглянул Митя.
Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в палисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой: еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так, как орут они только ранней весной, орали грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду, и еще дик, сер был вид деревни на косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью… Он шел в сад: и сад был еще низок и гол, прозрачен, — только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, да опушился акатник вдоль аллей и бледно белел, мелко цвел один вишенник в лощине, в южной, нижней части сада… Он выходил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фиолетовы были высохшие полевые дороги… И все это была нагота молодости, поры ожидания — и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки-поденщицы, делающие то то, то другое в усадьбе, работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старостой (рослым, грубым отставным солдатом) в поле на беговых дрожках…
Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, залиловели и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глянцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом.
И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу — уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей, — и ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять, — так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» — читал и перечитывал он — и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо, вокруг сиял сад своей снежной белизной, соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов — и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам…
Домой он шел медленно — чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма.
Сад разнообразно одевался.
Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, — оделся свежей, густой зеленью.
Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон: вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядою.
А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, благоуханного сливочного цвета.
И все это: огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома, — кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник, — все поражало своей густотой, свежестью и новизной.
На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее, дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей — по целым дням были открыты и двери и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясеня вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями.
Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку… Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла, — он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала.
Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, — о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, к Кате. И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и мучил себя, читая и перечитывая: