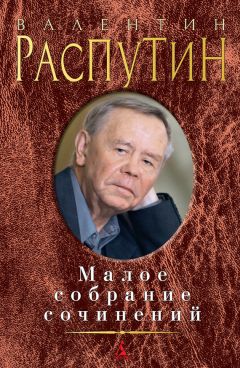В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнобойной артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.
К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть - уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступиться, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил - живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстраданного, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых - не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило - конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного, - лишь бы выгадать время.
Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все - плохо ли, хорошо ли, но уцелел.
Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности; раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. Дней на десять отпустят, - определили Гуськову, - не меньше. - Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они, - знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, для всех, а для них - особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя друг друга, - разве так можно?!
Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать - и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.
Война продолжалась.
Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными - с отцом, матерью, Настеной, - этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу - тогда он опять готов на что угодно.
И Настену не пустил - не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал - все легче. Она бы и проводила, а когда провожают надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах, - есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живать ему на свете. Уложат в первом же бою.
Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурать грозу или остановить град. Один, самый главный, бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали, - как было не обмануться?!
Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал, и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет - туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет война - сколько можно!
На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.
- А тебе куда? - спросил он Гуськова.
Гуськов неожиданно ответил:
- В Иркутск.
- Вместе поедем, - обрадовался танкист.
Так, в самый последний момент, подсадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня - не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.
Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше - дня тоже не хватит. И двух не хватит зима. А возвращаться с полдороги - зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного - самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго - совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.
Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его - нет. "Шкура! - говорили. - Ну и шкура! Всех хотел перехитрить".
А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно - вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.
В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой, пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.
У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза - рано утром и вечером - приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке - кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.