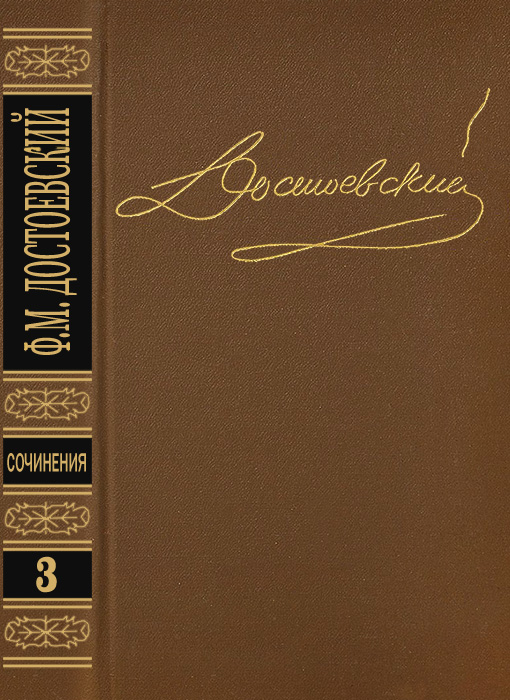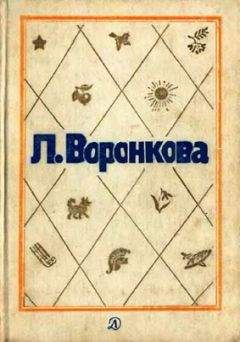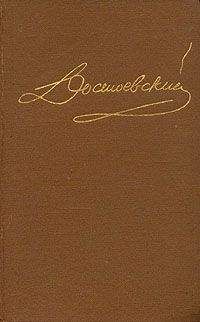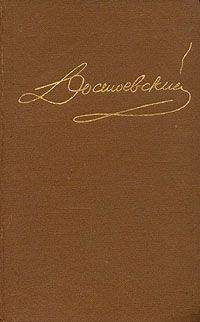крайней мере отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения…
— Я, братец, сам виноват, — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников, — во всем виноват! Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одолжаешь *…то есть… что я! какое одолжаешь!.. опять соврал! вовсе не одолжаешь; он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его! Ну, а я попрекнул его куском хлеба!.. то есть я вовсе не попрекнул, но, видно, так, что-нибудь с языка сорвалось — у меня часто с языка срывается… Ну, и, наконец, человек страдал, делал подвиги; десять лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом: всё это требует награды! ну, наконец, и наука… писатель! образованнейший человек! благороднейшее лицо — словом…
Образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина, надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению… он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его — сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок — и больше ничего. В ученость же и в гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился.
Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей.
— Сочинение пишет! — говорит он, бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. — Не знаю, что именно, — прибавлял он с гордым и таинственным видом, — но уж, верно, брат, такая бурда… то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколегия, что… Кажется, о производительных силах каких-то пишет — сам говорил. Это, верно, что-нибудь из политики. Да, грянет и его имя! Тогда и мы с тобой через него прославимся. Он, брат, мне это сам говорил…
Мне положительно известно, что дядя, по приказанию Фомы, принужден был сбрить свои прекрасные, темно-русые бакенбарды. Тому показалось, что с бакенбардами дядя похож на француза и что поэтому в нем мало любви к отечеству *. Мало-помалу Фома стал вмешиваться в управление имением и давать мудрые советы. Эти мудрые советы были ужасны. Крестьяне скоро поняли, в чем дело и кто настоящий господин, и сильно почесывали затылки. Я сам впоследствии слышал один разговор Фомы Фомича с крестьянами: этот разговор, признаюсь, я подслушал. Фома еще прежде объявил, что любит поговорить с умным русским мужичком. И вот раз он зашел на гумно; поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овса от пшеницы, сладко потолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца, и, наконец, совершенно умилившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Я это понял. Ведь рассказывал же Пушкин про одного папеньку *, который внушал своему четырехлетнему сынишке, что он, его папенька, «такой хляблий, что папеньку любит государь»… Ведь нуждался же этот папенька в четырехлетнем слушателе? Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием.
— А што, батюшка, много ль ты царского-то жалованья получал? — спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности.
— А тебе какое дело, пехтерь? — отвечал он, с презрением поглядев на бедного мужичонка. — Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее?
Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком». *
— Отец ты наш… — подхватил другой мужичок, — ведь мы люди темные. Может, ты майор, аль полковник, аль само ваше сиятельство, — как и величать-то тебя не ведаем.
— Пехтерь *! — повторил Фома Фомич, однако ж смягчился. — Жалованье жалованью розь, посконная ты голова! Другой и в генеральском чине, да ничего не получает, — значит, не за что: пользы царю не приносит. А я вот двадцать тысяч получал, когда у министра служил, да и тех не брал, потому я из чести служил, свой был достаток. Я жалованье свое на государственное просвещение да на погорелых жителей Казани пожертвовал.
— Вишь ты! Так это ты Казань-то обстроил, батюшка? — продолжал удивленный мужик.
Мужики вообще дивились на Фому Фомича.
— Ну да, и моя там есть доля, — отвечал Фома, как бы нехотя, как будто сам на себя досадуя, что удостоил такого человека таким разговором.
С дядей разговоры были другого рода.
— Прежде кто вы были? — говорит, например, Фома, развалясь после сытного обеда в покойном кресле, причем слуга, стоя за креслом, должен был отмахивать от него свежей липовой веткой мух *. — На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Отвечайте: заронил я в вас искру иль нет?
Фома Фомич, по правде, и сам не знал, зачем сделал такой вопрос. Но молчание и смущение дяди тотчас же его раззадорили. Он, прежде терпеливый и забитый, теперь вспыхивал как порох при каждом малейшем противоречии. Молчание дяди показалось ему обидным, и он уже теперь настаивал на ответе.
— Отвечайте же: горит в вас искра или нет? Дядя мнется, жмется и не знает, что предпринять.
— Позвольте вам заметить, что я жду, — замечает Фома обидчивым голосом.
— Mais répondez donc, [3] Егорушка! — подхватывает генеральша, пожимая плечами.
— Я спрашиваю: горит ли в вас эта искра иль нет? — снисходительно повторяет Фома, взяв конфетку из бонбоньерки, которая всегда ставится перед ним на столе. Это уж распоряжение генеральши.
— Ей-богу, не знаю,