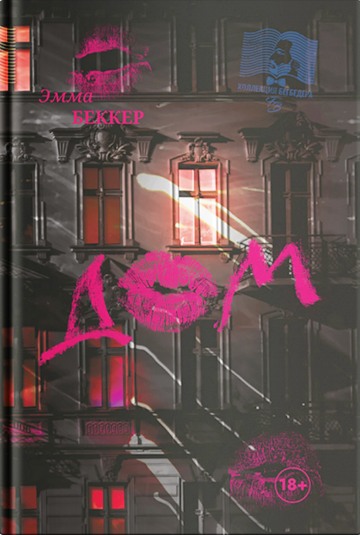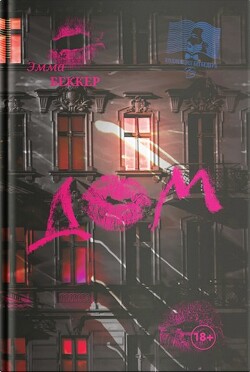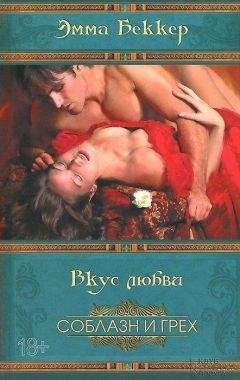ролями друга и любовника. Когда он смеется и часть меня тает, слыша этот настолько сексуальный смех взрослого человека, я специально сжимаю руку под столом на бедре, боясь, что могу инстинктивно потянуться ею к его ладони. А еще мне пришло в голову, что он не целует и не обнимает меня при людях не из-за их присутствия, а потому что ему этого не хочется, потому что наши прогулки по Берлину, кажущиеся ему слишком долгими, утомляют его так же, как и мои бесконечные вопросы, как и моя вечная жажда узнать его получше. Наверное, моя непрерывная болтовня, причины которой моя стеснительность и страх, что он заскучает, вместо того чтобы развлекать, душит его. Наверное, со мной Стефан начинает скучать по своему одиночеству так же, как и я скучаю по своему. Время, проведенное снаружи, по всей видимости, приводит нас обоих в плохое расположение духа, и только в постели, вдали от людских взглядов, мы со Стефаном — во всяком случае, наша кожа — обретаем определенное умиротворение. То есть пока он не начинает храпеть. Этот неслыханный параметр в своих романтических фантазиях я не учла. И тут я осознаю, что если я слишком молода для Стефана, то он-то, наверное, слишком стар для меня. Это объяснило бы, почему, когда я хочу сблизиться с ним, меня не покидает чувство, что я пытаюсь сложить вместе элементы двух разных пазлов. И почему, когда он уезжает и мне становится легче оттого, что больше не нужно изображать что бы то ни было, я вечно сожалею, что не была с ним нежнее, не проявила больше понимания, не заставила влюбиться в себя.
Представляю, как он уже устроился в кресле самолета, уносящего его обратно. Этого грубого медведя, наполняющего мою комнату ворчаниями и перетягивающего на себя все одеяло целиком. Этого мужчину, отказывающегося двигаться дальше, стоит только мне признаться, что у нашей прогулки нет намеченной цели. Мужчину, нетерпеливо дожидающегося, пока я на улице силюсь найти дом с нужным номером, мужчину, который, будучи старше моего отца, приходит в ужас от мысли, что его могут хоть на секунду принять за преподавателя или наставника, мужчину, которого раздражает мое любопытство, но который так произносит мое имя, когда кончает!.. Незабываемый момент, когда я сижу на нем — выше, чем когда-либо, — и вид у Стефана как у будущего утопленника, его взбудораженные глаза отражают мой имперский, почти мифический облик. Он говорит «Эмма, дорогая, дорогая, ох, Эмма» как мужчина, потерявший голову рядом с женщиной без возраста и происхождения. Не как мужчина, который в данный момент кончает — ну, не только как, — а как по-настоящему любящий мужчина. А потом от этого продолжающего потрескивать, но потихоньку угасающего огня его кожа становится обжигающей. Положив голову между моих грудей, он свободно, слепо и глухо вздыхает.
После, когда он открывает глаза, я закрываю свои, потому что та власть, которой меня в пределах комнаты любовных утех, казалось бы, наделяют мои таланты, ни в коей мере не умаляет мое восхищение этим мужчиной. Это проклятие, которое я, несмотря ни на что, называю нашей любовью. Минуты, которые он проводит во мне, — единственные, что сближают нас. В этом волшебство нашей истории — в этих моментах, следующих за физической близостью: когда я наблюдаю за ним, а он разглядывает меня, опершись на локоть и поглаживая мои волосы с нежностью, какую мужчины проявляют к женщинам, которыми только что овладели. Эта сцена могла бы показаться обычной — из тех, что бывают между двумя любовниками, — если бы не удивление, читаемое в его глазах: как мог он насладиться мной — девчонкой, которую он не полюбит никогда? В такие минуты мы вместе и все же одиноки как никогда. И тут внезапно кажется, что взаимная любовь между нами возможна. Наблюдая за ним в тишине, я осознаю, что и одного слова будет достаточно, чтобы положить конец этому хрупкому умиротворенному мгновению и нашему так легко улетучивающемуся взаимопониманию. А мне бы столько всего ему сказать. Может, в сущности, в этом и есть моя проблема — в необходимости говорить, тогда как нам вполне хватает и тишины. Я хочу сказать, что время и место, где мы со Стефаном любим друг друга, существуют, пусть они и ничтожны. И факт в том, что этого короткого мгновения в крохотной комнате достаточно, чтобы приютить нас вплоть до прихода сна, а после оно испаряется в ночи. Утром же все возвращается на свои места: к Стефану снова возвращаются его недостатки, ко мне — мои, однако у меня не получается выслушивать, как он жалуется на холод и расстояния, не вспоминая, какими мы были влюбленными накануне. Я терпеливо дожидаюсь вечера, чтобы снова побыть с этим несносным писателем, заставить его отдаться мне и посеять в нем зачаток просветления, благодаря которому он напишет мне позже, будучи на другом конце света: «Может быть, в сущности, ты единственная». Многовато неуверенности для одной фразы с неизменяющимся контекстом. Чтобы получить подобного рода признание, необходимо присутствие сразу нескольких факторов: Стефан должен загрустить или же удовольствие должно прогнать весь его цинизм, а все его жены и любовницы — слинять. Однако пресловутое «может быть» в начале предложения и уточнение «в сущности» так и отдаляют меня от «ты единственная». Его сообщение можно было бы перевести так: «против всякой логики, скрупулезно изучив собственное положение». Это так, но Реймон Радиге писал, что, когда говоришь женщине, что любишь ее, ты можешь думать, что сказал это по тысяче причин, не имеющих никакого отношения к любви, можно даже думать, что это была ложь. И все же что-то в этот момент подтолкнуло тебя к тому, чтобы произнести «я люблю тебя», а значит, это все-таки правда. Минуты, когда мы со Стефаном любим друг друга, реальны. Чаще всего они абсурдны, и порой меня возмущает правдивость этой фальши. В эти моменты мир кажется мне непреклонной вражеской территорией, где мы с ним сражаемся бок о бок. Но это все же лучше, чем, будучи на вражеской территории, сражаться одной против всех, не так ли?
Когда полицейская машина проезжает вдоль тротуара, где топчется девушка легкого поведения, я, на секунду остолбеневшая, представляю, как копы сейчас попросят у нее документы. Они с таким же успехом могут потребовать их и у странной женщины, читающей на холоде, сидя на скамейке, в четыре часа утра. И так как вышла я налегке, и чего мне не хватало еще, так это по недоразумению провести ночь в участке (хотя