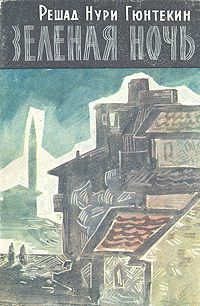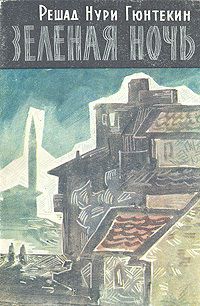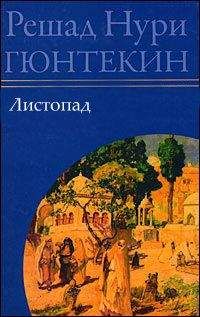этот аристократ, если у него в поезде купе с теплой постелью?
Один раз Макбуле, прижав свои губы к моему уху, попыталась посплетничать, щекоча перепонку своим простуженным голосом.
— Рядом с ним в каракуле — машинистка, — шептала она. — По всей вероятности, делит с ним купе. Удобно как, правда?
Меня прошиб пот: с одной стороны, я боялся, как бы кто-нибудь из сидящих за столом не услышал ее свистящего шепота. А с другой — того, что люди, увидев нас, могут все превратно истолковать.
Выручил меня из столь щекотливого положения вовремя подоспевший уд.
Директор, взяв Макбуле за руку, под бурные аплодисменты вывел ее на сцену и хотел посадить в принесенное из его кабинета кресло. Однако она наотрез отказалась и, осторожно пройдя на середину сцены, остановилась.
Бурными аплодисментами и свистом зрители просили ее петь снова и снова. По правде говоря, песни оказались совсем неплохими. Однако человек с аристократичной внешностью настолько засел у меня в голове, что это мешало мне наслаждаться ее пением. Я очень хорошо знал этого человека — только вот откуда? Начинающая лысеть острая макушка, большой мясистый нос, словно без хрящей, при каждом повороте головы свисающий то в одну то в другую сторону, глаза, начинающие подрагивать и моргать, если его о чем-то спрашивали. Где я мог видеть все это? В памяти стали проноситься портреты когда-то виденных мной людей: знаменитого профессора юриспруденции, которого я узнал по фотографии в газете, потом щеголеватого торговца-армянина. Однако я быстро отмел эти две кандидатуры. Постепенно его образ стал уносить мои мысли далеко в прошлое — в мое детство. Помню, что в последние годы правления Абдул-Гамида [16] я часто видел одного прожигателя отцовского состояния. Его можно было встретить то на известных базарах Фенербахче [17], то перед театром Минасяна [18], то проезжающим в первоклассном фаэтоне, запряженном венгерскими скакунами. Поговаривали, что он был сыном паши Софу Сейфуллаха и что в саду отцовского особняка в Булгурлу построил сцену и играл там в пьесах вместе с самыми настоящими артистами и разными прихлебалами.
Образ его казался настолько противоречив, что не запомнить его было просто невозможно. Ровный пробор каштановых волос, нос вроде бы такой же, как и у всех, тонкая талия, теряющаяся в присборенных жакетах; покрытая красными прыщами макушка, нос — словно без хряща, трудно принимающий прежнюю форму, если он иногда вытирал его платком, и круглый, как барабан, живот, никак не вяжущийся с его щуплой фигурой.
Забегая в своих воспоминаниях немного вперед, вижу этот образ опять, но на этот раз более похожий на сегодняшнего аристократа. На этот раз в районе Бейоглу [19] времен провозглашения конституции в театре «Партизан». Вокруг него, как обычно, полно прихлебал. Вижу, как он бросает из своей ложи на сцену банановую кожуру, а потом на этой же сцене вместе с венгерской танцовщицей танцует кабакчи арап [20]. Вспомнив все это, я уже не сомневался. Да — это, без сомнения, был он — господин Сервет. Нет ничего удивительного в том, что время так меняет людей. И эти двадцать лет сделали свое дело и наложили свой отпечаток. Однако нельзя было не удивляться прочности состояния паши Софу Сейфуллаха, если его сын до сих пор его не растранжирил и может себе позволить путешествовать первым классом в сопровождении машинистки в каракуле…
Время пролетело быстро. С улицы иногда доносился сигнал генеральского автомобиля, гости стали группами расходиться по домам, а зал постепенно пустеть. Прощаясь с нами, генерал, чтобы не зевнуть, стал морщиться и шевелить дрожащими губами, словно читая какой-то документ. Потом, проводив до своей машины оставшуюся последнюю даму, вернулся, помолодев от холода на несколько лет.
— Я еще, пожалуй, останусь, — сказал он. — Весело здесь. Хлопают, в печку дрова подкидывают… В тесноте, да не в обиде.
Человек, который аккомпанировал Макбуле, предложил директору:
— По всему видно, что поезд до утра не тронется. Нет смысла, чтобы наши гости до утра дрожали от холода в вагонах. Пусть проведут ночь здесь…
— Дай Аллах тебе здоровья, ходжа! — воскликнул директор. — Дров много! Раскочегарим печь докрасна… В буфете полно симитов [21], поставим самовар и будем пить чай.
Ходжа чуть не летал от восторга.
— Да, и некоторые из нас составят компанию нашим гостям. Хорошо, что уд мы не успели домой отправить…
Макбуле, повысив голос, сказала:
— Я, ходжа, поняла, что ты хотел этим сказать. Но увольте, я пас. Это было один раз и только по просьбе генерала. Умираю от усталости, подтяну кресло поближе к печке и буду спать.
Ходжа, изогнув еще больше свою и без того кривую шею, произнес:
— Ничего страшного, ты спи! А у меня для пробуждения спящих такие номера есть — закачаешься!
Наблюдая за перепалкой, нельзя было не удивляться тому, как эти двое за столь короткий срок стали такими закадычными друзьями.
— Нет, нет, ходжа, — сказал директор, найдя подходящий случай, чтобы оставить его, — ты должен пойти домой и лечь спать! Мы еще сможем вынести бессонную ночь, а вот ты — нет! Ты же у нас старый!
— Хорошо задел, прямо за живое, ничего не скажешь. Но не переживай, я как-нибудь потерплю. И так скоро высплюсь — засну вечным сном! — А потом, повернувшись в нашу сторону, продолжил: — Бесстыдник, конечно, но… Да храни его Аллах, если бы не этот дом культуры, протухли бы мы здесь… Да, именно протухли, другого слова нет.
Произнося это, ходжа, словно задыхаясь, поднял голову к потолку и пальцами старался ослабить воротничок рубашки.
Этот человек обладал одной странной чертой. Я огляделся — среди стольких людей он выглядел чудновато: изрытое оспой лицо, заячья губа, маленькие глазки, блестящие, как угольное ушко, выпуклый лоб. Но, несмотря на все это, когда он говорил, он так завораживал собеседника, что его лицо казалось самым прекрасным на свете. И, казалось, более красивого лица я просто не видел.
Эта ночь была ночью неожиданностей. Сидящий за одним из соседних столиков под навесом довольно плотный человек, с трудом раздвигая толпу, тяжело дыша, подошел к нам и встал напротив меня.
— Вы господин Сулейман, не так ли?
Присмотревшись, я тоже его узнал. Это был один из моих старых приятелей по лагерю — фармацевт по имени Азми. Хотя мы в то время не были очень близки, он, чуть не плача, расцеловал меня. Ему сразу нашлось место рядом со мной. По его движениям и