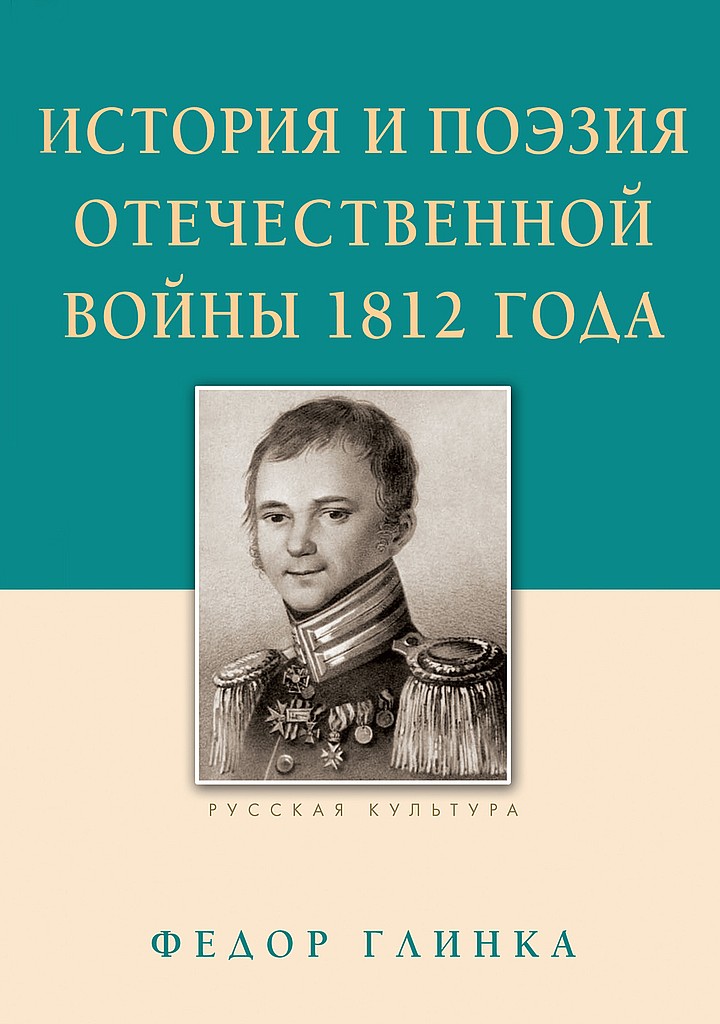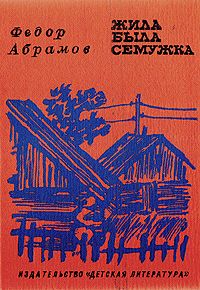Странно, но спорить больше никто не стал. Не возражал и сам Тятя. И всегда откликался, кто бы его так не звал.
Зимой Тятя с бабушкой Ульяной приезжали в город на розвальнях, застеленных душистым сеном. Лошади время от времени менялись. Но Фёдор помнил всех. Сначала это была красивая и стройная, серая «в яблоках», кобыла Волга. Потом были два пожилых мерина, они чередовались друг с другом, Тятя приезжал то на одном, то на другом. У них были смешные имена — Фомка и Еремка. Наверное, они были братьями. Последним тоже был мерин, смешно, но он был, как в том устойчивом выражении, сивым. Сивый мерин по прозвищу Санчик.
Сани ставили к забору возле дровяника, с Санчика снимали упряжь, на спину накидывали теплую стеганую накидку, а перед мордой ставили ведро с водой и торбу с овсом или клали охапку сена. Федор с братом, конечно, уже были тут. Разумеется, они знали все лошадиные лакомства, в эти тонкости их посвятил Тятя. В первую очередь это краюха черного хлеба, обильно посыпанная солью, а еще морковка, капустные листы и кочерыжки. Санчик принимал все с благодарностью, он негромко фыркал, выдыхая через ноздри свое лошадиное «спасибо». Так это фырканье называл Тятя. Еду из рук Санчик брал одними губами, осторожно и вежливо. Хотя на самом деле он мог быть и грубоватым и даже решительным. Когда однажды, в очередной Тятин приезд, к ним во двор забежал соседский довольно хулиганистый и наглый пес Бобик, любивший полаять на тех, кто, как он чувствовал, несколько его опасался, и начал в очередной раз облаивать и Федора, и забившегося под ворота кота Ваську и самого Санчика, мерин возмутился, сочно, по своему, по-лошадиному, выругался, показав крепкие и мощные желтоватые зубы, и подняв копыто угрожающе шагнул в сторону Бобика. Этого хватило для того, чтобы пёс, поджав хвост, ни слова не говоря, точнее ни разу больше не гавкнув, ретировался. Через минуту из дома вышел Тятя, верно и он слышал и лай и Санчиково ржание. Самое интересное, что о том, что случилось, он сначала спросил не у Фёдора, а у мерина: «Ну что, углан, кому ты тут опять разнос устраиваешь?».
Федор с братом очень любили Тятины зимние приезды. Накрывался стол со всеми домашними разносолами, доставалась припасенная поллитровка, а то и не одна. Бабушка Ульяна, Тятина жена, доставала из привезенного, самого по себе вкусно пахнущего берестяного туеса уже малость подзамерзшие ржаные картофельные шанежки, в городе почему-то таких не делали. Они разогревали шанежки в еще теплой печи, потом забирались на эту же печь и оттуда слушали эти длинные застольные разговоры — сначала про работу, про хозяйство, потом про родных, про знакомых, потом, когда бутылка была уже изрядно почата, шли воспоминания. Это была самая интересная часть этих застольных бесед.
И опять странная вещь, об этом Фёдор задумался много лет спустя, в этих застольных разговорах практически не говорили о войне. Да, время того или иного события, которое вспоминали, если не требовалось дополнительной точности, определялось предельно просто — до войны, во время войны, после войны, но о самой войне не говорили совсем. Хотя, понятное дело, коснулась она всех, кто был за столом, кого в тылу, кого на фронте.
Тятю забрали на фронт вскоре после начала войны, в июле сорок первого. О том, где он воевал, как он воевал, что там с ним было, он не рассказывал нигде и никогда. В декабре сорок первого он уже был дома, после двух месяцев в госпитале по случаю «ранения брюшной полости, верхних конечностей и контузии». Это Федор прочитал в ветхой госпитальной справке, которую обнаружил, будучи в деревне, копаясь из любопытства, пока Тяти с бабушкой не было дома, среди разных Тятиных бумажек, хранившихся на шкафу в старой серой от времени картонной папочке с веревочными завязками. Но, как потом рассказывала мама, дома после госпиталя Тятя был недолго, его отправили в Нижний Тагил охранять лагеря с пленными немцами, которых он и сторожил до 1948 года. Когда он вернулся, все его оставшиеся в живых односельчане-фронтовики уже давно были дома.
— Ну что, Фёдор, поди всех пленных фрицев извел, чтобы домой то воротиться? — так шутил бывший сапёр однорукий дядя Ваня Тимин, живший через избу.
Пальцы правой Тятиной руки в сорок первом были перебиты, но со временем он приноровился и научился делать этой рукой практически все, что умел ещё до войны. А владел он мастерски столярным делом, шил нехитрые сапоги и другую деревенскую обувь, а еще играл на гармошке. Как он это всё делал здоровыми руками, Федору, естественно, видеть не пришлось, он видел только как странно Тятя обхватывал рубанок, как непонятным образом ходили, именно ходили, а не бегали, как принято говорить, его пальцы по кнопкам гармони. Да, он научился всему заново и делал все очень хорошо. Почти в каждой избе и в их деревне, и в соседних, стояли сделанные им буфеты и комоды, а в окнах изб изготовленные им рамы. А на праздники Тятя приходил на их деревенскую поляну, «под кедры», и наигрывал там молодежи допоздна всякие вальсы и кадрили. Только на следующий день бабка доставала свою волшебную, черную, дегтем пахнущую мазь и мазала Тяте опухшие негнущиеся суставы — «Ну что, намузычился, старый?».
Тятя умер в 72 года зимой 1972-го. Ровесник века. Просто не проснулся. Было воскресенье, мама с утра растапливала печь, как то всё у нее в это день получалось неловко. Поленья падали с рук, из чугунка через край на пол лилась вода, потом она порезала палец, когда чистила картошку. Перед обедом в ворота постучали. Через протаяную в окошке дырочку Федор увидел перед воротами лошадь и сани. Лошадь он не узнал, это был не Санчик. В дом вошел Миша, самый младший мамин брат, который после армии жил с Тятей и бабушкой в деревне. Он еще не успел произнести ни слова, как мама опустилась на табуретку и вдруг завыла, не заплакала, не зарыдала, а именно завыла, завыла так, что Фёдору стало так страшно, как никогда не бывало до этого.
— Да, Маша — Миша тоже сел и заплакал — Ушел Тятя…!
Потом была долгая зимняя дорога — через замерзшую Каму, потом через приземистые закамские ельники и спрятавшиеся между ельниками поля. День был морозный, цокот копыт отдавался барабанами в гулком замерзшем воздухе. Хвост и грива уставшего безымянного мерина, на котором приехал Миша, покрылись инеем, на морде у мерина висели сосульки,